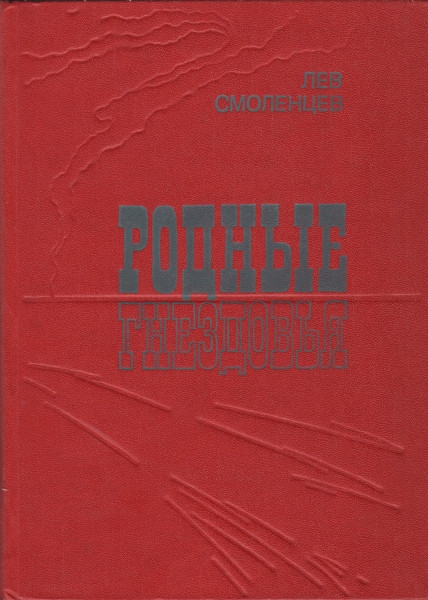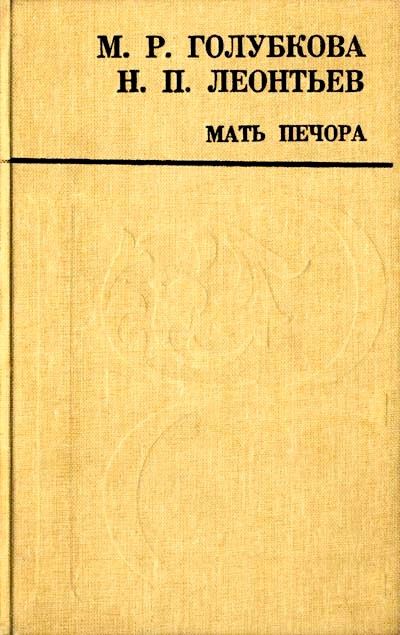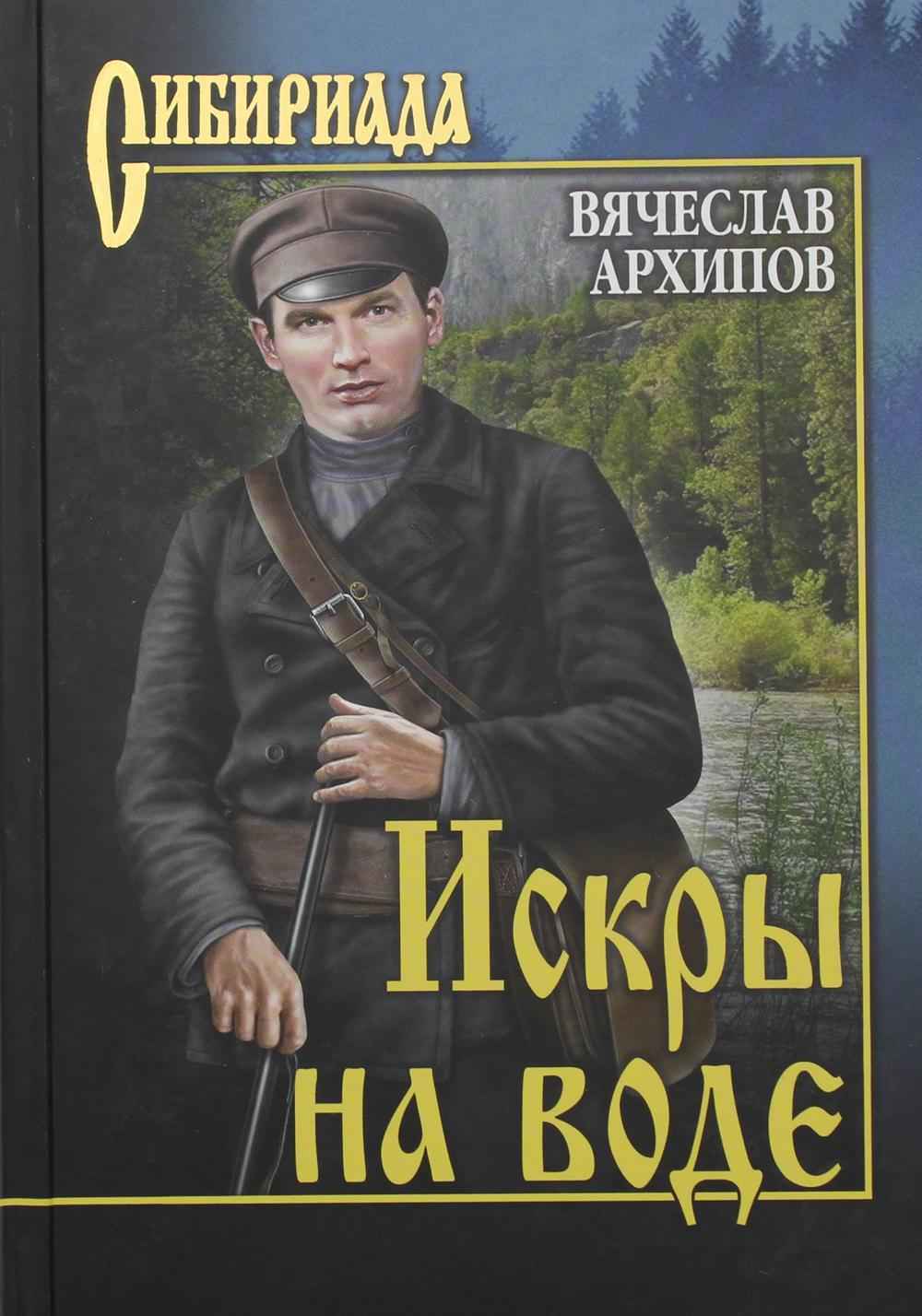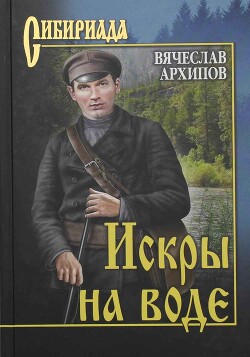в изгоях на своей земле живем. Когда в чудских и выговских местах стали притеснять единоверцев, наши-ти предки и подались суды, за Камень. Облюбовали тутока место, обжились, пополнились товаришшами. Кто в хозяйстве робит — чернецы называются, кто службу ведет, кто книги переписывает, новые иконы из плах режет да пишет их маслом. Народ бежал суды крепкой и духом и телом, а тут така благодать... Словом, зажили богато, размашисто, да вот беда — соли нет в здешних местах, а они токо семги сотнями пудов имали. Снарядили инока с обозом в Мезень обменять рыбу на соль, а он долгоязыким оказался: «Тайной скит!», «Богато живем!»... Наушники архиепископа Варсанофия донесли. Тут же на зимнего Николу рота солдат обложила скит со всех сторон. Наказ им один: имать всех раскольников, как ставленники сотаны нас кличут, ковать в колодки да в Архангельско, в подземелье... На долгие годы, аки праотца нашего святого Аввакума. Слыхал о его мучениях за остатну Русь, вьюнош?
— Знаю, Нил Семенович, слышал, — подтвердил Андрей, поглощенный рассказом. Журавский не раз слышал о самосожженцах в Великопожненском ските, но здесь эта трагедия воспринималась по-иному, с болью в сердце, с перехватом дыхания, с ознобными мурашками по коже. Да и сухой, с ястребиным носом и взглядом Нил рассказывал так, как будто сам горел и воскрес из пепла. — А дальше, дальше-то что было? — поторопил Андрей.
— А дале было то, што нам не дано господом богом: настлали на пол часовни соломы, опустились со свечами в руках сто четырнадцать русских людей перед иконой Николая-чудотворца на колени, и... разом подожгли солому... Вот што было дале... — Нил судорожно задвигал кадыком и трижды осенил себя крестом... Перекрестился Амос, замахала руками перед лицом старуха, вставив свое слово:
— Души-ти их анделами-голубями вознеслись к господу... Счастье-то како-пострадать так за веру, — вытерла она ладонью слезы.
«Счастье в самосожжении, — думал Журавский. — Духовный экстаз, охвативший сто четырнадцать человек — всех, кто был тут два века назад. Что теряли такие крепкие люди, чтобы самосожжение считать за счастье? Что? Сможем ли мы ради чего-то пойти на такую мученическую смерть? Нил сможет. А я?.. Сможет ли это сделать Ефимко Мишкин — наставник соседних сел? Нет, не сможет...»
— Обязательно ли было им жечь себя, Нил Семенович? — вслух спросил Андрей. — Ведь в роте солдат был священник, готовый перекрестить всех старообрядцев в иную обрядность того же христианства. Перекрестись — и живи опять...
— Да как жо то можно! — перебил Нил. — В кресте ли вера, вьюнош! — Глаза Нила сверкнули, как будто в них полыхнул отсвет того человеческого кострища. — Правды, правды лишали царь Алешка и словоблудец Никон! Правды лишали остатну Русь — как тута уступить, стать овертышом?
— Какой правды, Нил Семенович? Объясните мне... Жгли себя по всему Северу тысячи людей... Ради чего жгли? Почему именно здесь, когда старообрядцев было полно на Руси?
— То, вьюнош, не истинные блюстители древлего благочестия. То черные запечные тараканы, жирующие в темноте своей. — Голос Нила стал глубинным, взгляд притух, стал задумчивым. — Правда в душах истинных сынов Руси пришла отступом сюда. Дале отступу нет. Дале студеной океян! И возвестил тогда великомученик Аввакум: «Иного же отступа уже нигде не будет: последняя Русь зде!» Здесь, вьюнош! — опять полыхнули глаза Нила. — Тогда-то и возгорелись костры человеков благочестия ради. Боле на Руси правды нет, — закончил Нил. — Рассеялась вера, рассеялась правда, сгинула Русь... — Нил опустил голову, плечи. Спина его выгнулась дугой, четко обозначились острые позвонки под домотканой рубахой.
Журавский оцепенел, расширив темные глаза, бледнея лицом, — так было с ним всегда в минуты сильного волнения. Он не видел сейчас ни Нила, ни Амоса, ни старухи: в яви предстала пред ним большая, срубленная из лиственниц часовня, а в ней сто четырнадцать коленопреклонных мужчин и женщин, для которых страшные муки самосожжения были ничем по сравнению с жутким ощущением утраты правды, истинной веры.
— Вот, вьюнош, — положил перед Андреем Нил книгу в кожаном переплете, а поверх нее старинную тетрадь с обожженными краями. Журавский не видел, когда старик встал, сходил куда-то и принес эти вещи. — Тута все они вписаны, — сказал наставник, положив сухую черную ладонь на тетрадь...
Журавский нашел в летописи основателя старообрядческого скита такое, чего не сыскал в записках ученых, посетивших Печорский край. Оказалось, что именно монахи завезли скот и успешно размножали его на широте Полярного круга. Более того, они кормились выращенными здесь рожью, ячменем. Возделывали лен и коноплю, одеваясь в домотканую одежду. Все это было на заре восемнадцатого века, а наука и теперь, в двадцатом веке, начисто отрицала возможность хлебопашества в Печорском крае. Журавского это поразило не менее, чем рассказ наставника Нила.
Летопись начиналась с описания приезда выговских иноков на печорскую Пижму. День за днем Иоанн рассказывал в ней о росте братии, о хозяйских и иных делах. В лето перед самосожжением было записано: «...с божьей милостью в сусеки ссыпано ржи, овса, гречи, ячменя — общим счетом четыреста мер... наткано двести одиннадцать холстов... семги усолено тридцать шесть бочек. Сена поставлено более двух тысяч вытей... Скота в зиму пущено сто тридцать четыре головы, да триста овец, да двенадцать тягловых лошадей...»
— Нил Семенович, сколько пудов в одной выти? — спросил Журавский.
— Двадцать.
— Почему так называется мера веса сена?
— Конский воз энто.
— Тогда, пожалуй, понятно. Только, вероятно, не «выть», а «вить». Свивать, увивать сено на санях. Стало быть, тысячу шестьсот пудов зерна и более сорока тысяч пудов сена снимали монахи с этих земель, да льняной пряжей обеспечивали себя полностью!
— Знамо дело, на то они и велики пожни... — Нил оборвал себя на полуслове и прислушался к голосам на улице.
Четвертная — мать родная,
Полуштоф — родитель мой,
Четвертиночка — сестричка,
Спроводи меня домой, —
полупьяно с бахвальством пропел звонкий молодой голос. Непонятный припев прокричали в несколько голосов, явно приближаясь к дому наставника Нила.
Андрей не знал, что с того самого времени, как сожгли здесь себя предки Нила, петь, веселиться и даже рожать в Скитской было строго запрещено — все это делалось