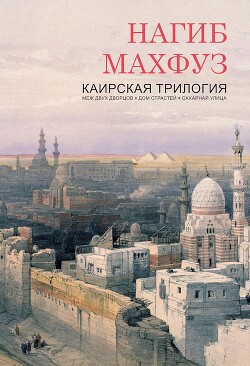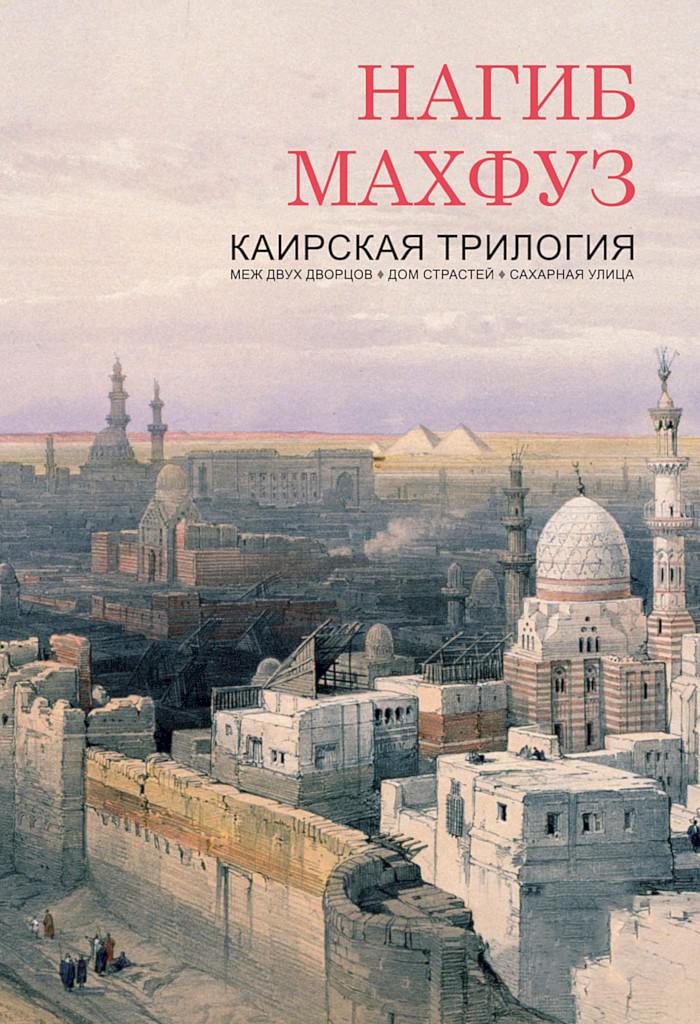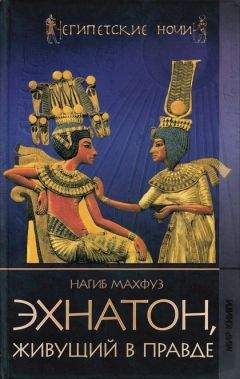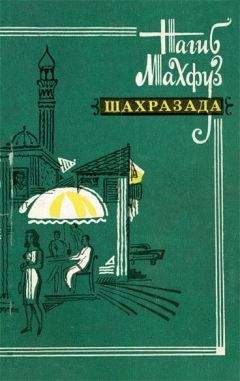— Совсем вы нас оставили, шейх Мутавалли, с самой Ашуры не удостаивали нас честью увидеться с вами.
Шейх незатейливо и безразлично сказал:
— Я исчезаю, когда захочу, и появляюсь, когда захочу, и не спрашивай, почему…
Господин Ахмад, который уже привык к его стилю, улыбнулся, и пробормотал:
— Даже если вы и отсутствовали, ваша благодать никуда не делась…
Но не было заметно, чтобы на шейха эта лесть произвела впечатление; скорее напротив: он дёрнул головой, что указывало на его нетерпение, и резко произнёс:
— Разве я не обращал твоё внимание не раз, чтобы ты не начинал разговор и сохранял молчание, пока я говорю?!
Господин Ахмад, не желая затевать с ним ссору, сказал:
— Простите, шейх Абдуссамад, я позабыл об этом напоминании из-за вашего длительного отсутствия.
Шейх ударил ладонью о ладонь и закричал:
— Оправдание хуже вины! — Затем, грозя указательным пальцем, сказал. — Если ты и дальше будешь упорно мне противоречить, я откажусь брать от тебя подарок!
Господин Ахмад твёрдо сжал губы и простёр ладони, поневоле сдавшись и заставляя себя замолчать на этот раз. Шейх Мутавалли выждал, дабы удостовериться в его послушании, затем откашлялся и сказал:
— Благословение любимому господину нашему.
Господин Ахмад с глубоким чувством произнёс:
— Да будет над ним благословение и мир!
— Да воздаст Аллах должное твоему отцу, и да смилостивится Он над ним и упокоит его с миром. Я вот сижу здесь на твоём месте, и не вижу никакой разницы между отцом и сыном. Разве что покойный носил чалму, а ты вот сменил её на феску…
Ахмад с улыбкой пробормотал:
— Да помилует нас Аллах…
Шейх зевнул, да так, что из глаз его потекли слёзы, затем продолжил:
— Молю Аллаха, чтобы Он даровал детям твоим — Ясмину, Хадидже, Фахми, Аише, Камалю, и матери их успех и благочестие. Амин…
Странным показалось господину Ахмаду, что шейх упомянул имена его дочерей, Хадиджи и Аиши, несмотря на то, что он сам давно сообщил ему, как их звать, чтобы тот написал для них амулеты, и шейх не первый и не последний раз произносил их имена, однако повторение имени даже одной из его женщин вне стен дома — пусть даже устами шейха Мутавалли — звучало порой странно и неприятно для него. Он пробормотал:
— Амин, о Господь обоих миров…
Шейх вздохнул и сказал:
— И прошу я Аллаха Всемилостивого вернуть нам эфенди нашего, Аббаса, при поддержке войска халифата, от первого до последнего…
— Мы просим Его, ведь для Него нет ничего сложного.
Шейх заговорил громче, и с раздражением сказал:
— И да потерпят англичане и их пособники отвратительное поражение, после которого не будет у них опоры.
— Пусть Господь наш поразит их всех карой Своей…
Шейх горестно качнул головой и сказал с тоской в голосе:
— Я вчера был в Москве, и два австралийских солдата преградили мне дорогу, требуя отдать всё, что было при мне. Я только вытряхнул свои карманы перед ними и вытащил единственную вещь, что у меня была — початок кукурузы. Один из них взял его и пнул ногой, словно мяч, а другой выхватил у меня чалму, развязал шарф, порвал их и бросил мне в лицо.
Господин Ахмад следил за его рассказом, стараясь справиться с обуревавшей его улыбкой, и тут же замаскировал её преувеличенным сочувствием, воскликнув:
— Да уничтожит Аллах их вместе с их семействами…
Шейх закончил свой рассказ словами:
— Я поднял руки к небу и закричал: «О Могущественный! Уничтожь их народ, как они уничтожили мою чалму…»
— Да не оставит Аллах без ответа эту мольбу…
Шейх откинулся назад и закрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Пока он оставался в таком положении, господин Ахмад с улыбкой всматривался в его лицо. Затем шейх открыл глаза и обратился к своему собеседнику тихим голосом, в котором проскальзывали нотки, предвещавшие какую-то важную тему:
— До чего же ты доблестный и великодушный человек, о Ахмад, сын Абд Аль-Джавада!
Ахмад довольно улыбнулся, и сдержанно произнёс:
— Боже сохрани, о шейх Абдуссамад…
Но шейх опередил его и не дал закончить:
— Не торопись. Такие, как я, высказывают похвалу лишь как подготовку, чтобы потом сказать правду, в виде поощрения, о сын Абд Аль-Джавада…
В глазах господина Ахмада проскользнул интерес вместе с опаской, и он промямлил:
— Господь наш, помилуй нас…
И шейх ткнул в него своим толстым указательным пальцем, и спросил тоном, больше похожим на угрозу:
— Ты же верующий, благочестивый человек. Но что ты скажешь о своём увлечении женщинами?
Господин Ахмад, привыкший уже к откровенности шейха, не встревожился из-за такого наскока, и лаконично засмеялся. Затем сказал:
— И что с того? Разве не рассказывал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о своей любви к благовониям и женщинам?
Шейх нахмурился и презрительно скривил рот в знак протеста словам Ахмада, который не был удивлён тому, и сказал:
— Дозволенное не есть запретное, о сын Абд Аль-Джавада, а брак — это не беготня за распутными женщинами…
Господин Ахмад устремил взгляд куда-то в сторону и серьёзным тоном произнёс:
— Я вообще никогда не позволял себе покуситься на честь или достоинство кого-либо, и слава Богу…
Шейх ударил руками себя по коленям, и странным, порицающим тоном сказал:
— Оправдание для слабого это всего лишь его отговорка, а разврат проклинаем, хотя бы даже с распутной женщиной. Твой отец, да упокоит его Аллах, бегал за женщинами и женился раз двадцать, так почему же ты пошёл по его следам и почему пошёл по пути греха?!
Ахмад громко засмеялся и сказал:
— Ты что, один из угодников Божьих, или ответственный за шариатский брак?! Мой отец был почти бесплодным, и потому женился больше одного раза, но несмотря на всё это, у него родился только я, и всё его имущество было распределено между мной и четырьмя его жёнами. А сколько всего было потрачено за всю его жизнь на нужды шариата?! У меня же есть трое сыновей и две дочери, и мне не позволительно жениться ещё раз и растрачивать то состояние, которым наделил меня Аллах. Не забывай, о шейх Мутавалли, что мои красотки сегодня — это те же вчерашние невольницы, которых Аллах дозволил покупать и продавать, а Аллах и был и будет Прощающим и Милосердным…
Шейх вздохнул и сказал, покачав головой вправо и влево:
— Кто же искуснее вас, о люди, в приукрашивании зла? Ей-Богу, о сын Абд Аль-Джавада, если бы не любил я тебя, то мне и на ум бы никогда не пришло беседовать с таким бабником, как ты…
Господин Ахмад раскрыл ладони и с улыбкой сказал:
— Да внемлет Аллах…
Шейх запыхтел от досады, и воскликнул:
— Если бы не твои шутки, ты был бы самым идеальным человеком…
— Совершенство принадлежит лишь одному Аллаху…
Шейх повернулся к нему, указывая рукой, словно говоря: «Давай оставим это в стороне», а потом внимательно, как человек, которого душит петля на шее, спросил:
— А как же вино?… Что ты об этом скажешь?!
Тут же настроение господина Ахмада спало, в глазах его сверкнула досада, и он надолго замолчал. Шейх же принял его молчание за капитуляцию, и победоносно воскликнул:
— Разве это не грех, который совершает тот, кто стремится к послушанию и любви Аллаха?
Господин Ахмад перебил его с воодушевлением того, кто отражает постигшую его беду:
— Но я очень стремлюсь к послушанию и любви Аллаха!
— На словах или же на деле?
И хотя ответ у него уже был готов, он помедлил, размышляя, прежде чем произнести его. Не в его обычаях было утруждать себя субъективными размышлениями или внутренним созерцанием. У него была одна особенность — как у всех тех, кто почти никогда не остаётся наедине с самим собой: мысли его не включались, пока он сам не заставлял их работать с посторонней помощью — будь то мужчина, женщина, или какая-то причина, вытекающая из практической жизни. Он отдался полноводному потоку жизни, целиком утопая в нём, и видел на его поверхности лишь отражение своего лица. Не так давно он был бодрым и жизнерадостным, и даже начиная стареть — ему уже исполнилось сорок пять — он всё так же наслаждался льющейся через край пылкой жизненной силой, которая влияла лишь на юнцов. Потому-то его жизнь вобрала в себя такое количество противоречий, колебавшихся между поклонением Богу и развратом, — от всего этого он получал удовольствие, несмотря на их несовместимость. Он не подкреплял эту несовместимость личной философией или какими-то ханжескими мерами, предпринимаемыми остальными людьми, а лишь своим поведением, свойственным его особой природе, добросердечию, чистой душе и искренности во всём, что бы он ни делал. В его груди не бушевали вихри смущения, и он оставался всё таким же довольным. Вера его была глубока — он унаследовал её от отца, и тот никто не вмешивался в его усилия, однако его деликатные чувства и совесть вкупе с искренностью придавали ему то высочайшее, острое ощущение, что не давали его вере стать слепым подражанием или ритуалом, исходящим только лишь из желания или страха. В целом, самой яркой характерной чертой в нём была его вера в плодотворную, чистую любовь. И с этой плодотворной, чистой верой в душе он радостно и легко исполнял все предписания Аллаха: молитву, пост и раздачу милостыни. Душа его была чиста, а сердце наполнено любовью к людям, мужеством и доблестью, что делало его дорогим другом, заслуживающим того, чтобы люди пили из этого пресного источника. И этой чрезмерной, пылкой живостью он раскрывал свою грудь для радостей жизни, для удовольствий — улыбался при виде роскошной еды, оживлялся от выдержанного вина, сходил с ума по миловидному личику, всё это радостно и страстно вкушая, не обременяя при этом совесть чувством вины или тревоги. Он действительно наслаждался подаренной ему жизнью. Как будто не было никакого противоречия между правом его сердца на то, чтобы жить полной жизнью и правом Аллаха на его совесть. Ни одного момента в своей жизни не чувствовал он, что далёк от Аллаха, или что ему воздаётся по заслугам, нет: то было лишь по-братски, с миром. Неужели в одной этой личности уживалось сразу две таких разных?!.. Или же он верил в Божественное великодушие, но не считал истинным запрет двух своих любимых удовольствий, ведь даже в запрете была свобода — воздерживаться от греха, чтобы не мучить никого?! Скорее всего, он воспринимал эту жизнь сердцем, чувствами, без малейшего раздумья или созерцания, и находил в себе сильные инстинкты, некоторые из которых стремились к Богу, которые он упражнял поклонением Ему. Другие же инстинкты толкали его к удовольствиям, и он насыщал их разными забавами. И те, и другие напрочь смешались в нём, но он не надрывался, чтобы навести в них порядок. Ему не было нужды оправдывать их своими идеями, разве что под давлением критики, вроде той, что представил сейчас шейх Мутавалли Абдуссамад. И в этом состоянии ему особенно тяжело было думать, чтобы обвинять самого себя, но не потому, что ему было легко винить себя перед Аллахом, а скорее потому, что он не всегда верил, что виноват, или что Аллах и впрямь гневается на него, чтобы позабавиться, но не наказывать его мучениями. С одной стороны, он следовал за нитью размышлений, но с другой обнаруживал всякие пустяки, которые знал о собственной религии. Вот почему он стал таким угрюмым, когда шейх вызывающе спросил его: