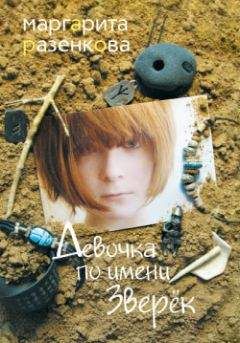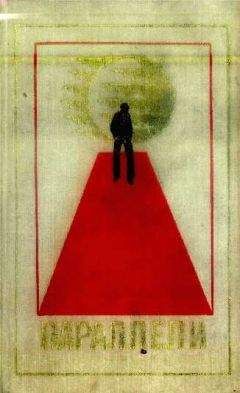По всему было видно, что делать здесь Тэдзуми было нечего. Но вдруг, вопреки всякой логике, он почувствовал в душе не боль отчаяния и ревности, а будто бы… да-да, он не ошибся… облегчение! И умиротворение, как легкое дуновение свежего ветерка в иссушающе жаркий полдень, приятно овеяло душу!
И все же он подошел… Сказать, что Юки сильно удивилась, увидев своего друга детства, значит, не сказать ничего. Ее глаза удивленно-испуганно округлились, она побледнела и почти театрально, как перед героем-злодеем в ужасной маске из дурной пьесы, выронила из задрожавших рук веер и какой-то свиток, с которого франтовски свисала красная кисточка.
Тэдзуми поднял свиток – дорогая бумага, расцвеченная пошлой розовой пыльцой и надушенная до невозможности. На ней, вполне каллиграфично, выведены строфы: «Лань стремится к свежему источнику, как я – к губкам прелестницы Юки». Подписано неким… Не стоит и разбирать, наверняка какой-нибудь богатый болван, нанявший одного из вечно сидевших здесь на каждом углу опустившихся монахов-писцов.
Брезгливо держа розовый листок за угол двумя пальцами и протягивая его владелице, Тэдзуми тихо проговорил вместо приветствия:
– Вечерами, когда-то давным-давно, так давно, что не стоит и вспоминать, я читал тебе стихи великих поэтов и лучшие поэмы из китайской Книги песен. А тебе больше понравилось это?
Ошеломленная Юки растерянно кивнула. Тэдзуми тоже покивал, как учитель, получивший от ученицы правильный ответ, затем произнес:
– Я пришел сюда, чтобы предложить за тебя выкуп…
Он не успел закончить, как Юки, некрасиво плюща губы («Решила заплакать, – подумал Тэдзуми, – да видно, не получается»), затараторила, глядя мимо него куда-то вбок:
– Я не хочу! Мне здесь хорошо! Не хочу! Чего я не видела там, в деревне?! – Ее голос неприятно и неприлично сорвался на визгливые нотки – служанки брызнули в разные стороны.
Тэдзуми поморщился и поднял руку, прерывая ее:
– Я пришел без приглашения, и пожалуй, не вовремя. Но когда я увидел тебя, мне и самому все стало ясно. Не утруждай себя объяснениями. Не знаю, что тут еще сказать… – Он пожал плечами. – Разреши пожелать тебе… ну, скажем, успеха и здоровья. Прощай, госпожа Юки.
Тэдзуми повернулся, чтобы уйти, но внезапно его посетила забавная мысль.
– Твой влюбленный поэт, – он кивнул на розовый свиток, – сделал грубую ошибку при написании твоего имени.
– К-какую? – слегка заикаясь, спросила Юки.
– С тем иероглифом «ки», который он использовал, твое имя значит «мастерица»?
– Ты тоже использовал этот иероглиф! – В голосе Юки, уже догадывавшейся, к чему клонит Тэдзуми, мелькнули по-кошачьи шипящие нотки вызова.
– Я делал ту же ошибку. Ведь надо использовать другой «ки» – тот, что значит «вульгарность» или «распущенность».
* * *
Не выйдя и за ворота Ёсивара, Тэдзуми выбрал из трех вишневых лепестков самый нежный, почти не увядший, еще будто бы дышавший весной и манивший белизной и полупрозрачностью, положил его на ладонь и прощально-мягко дунул. От первого же дуновения лепесток по имени «Юки» охотно слетел с ладони и, легкомысленно кружась и виляя краешками, упал под ноги прохожих, мгновенно затерявшись в сухой дорожной пыли…
* * *
– Сынок, – мать мягко тронула его за рукав, – сынок, давно хочу попросить тебя об одной вещи.
– Да, мама. – Тэдзуми перевел на нее взгляд, до этого рассеянно устремленный за окно, где в полуденном мареве истекающего первого месяца лета лениво шевелила листвой ветка сливы с крупными розоватыми, почти созревшими плодами.
– Видишь ли… – Она запнулась и смущенно улыбнулась собственной нерешительности. – В середине лета, когда мы отмечаем праздник Бон, день поминовения предков, ты должен будешь посетить храм Будды в родном селении, как заведено.
Тэдзуми вежливо кивнул, но не сдержал удивления:
– Конечно, я помню об этом. Почему ты так подробно напоминаешь?
– Дело в том… – Она опять будто смутилась, но на этот раз договорила тверже: – Мне, уж видно, теперь не по силам, а откладывать больше нельзя: годы идут, и силы мои почти иссякли… – Она сделала паузу и, как видно, окончательно утвердившись в своих мыслях, уверенно продолжила: – Одним словом, мне очень нужно, чтобы ты совершил паломничество!
Тэдзуми в недоумении почесал макушку:
– Я не против, матушка, но у тебя такой необычный тон. Что за необычное паломничество ты мне уготовила? Что-то особенное для тебя связано с этой просьбой?
– Ты угадал. Да, связано – это связано с тобой и твоим рождением!
«Ого!» – только и подумал Тэдзуми.
– Перед тем как тебе родиться, – начала мать, – я много молилась: Небо не посылало нам с Кицуно наследника. Это само по себе было печально, а тут еще политические дела повернулись таким образом, что наш род, именно из-за отсутствия наследника, мог лишиться всего – положения, достоинства, в конце концов – поместья… Твой отец собирался отправиться тогда в паломничество, надеясь вымолить у Небес столь необходимое – тебя!
– Да, матушка, вы пережили трудные времена.
– Об этом ты знаешь. Не знаешь о другом… – Она устроилась на циновке поудобнее. – Как-то раз, когда я была одна на дворе, даже служанки куда-то удалились… Еще помню, собиралась гроза, и далеко-далеко уже были слышны первые раскаты грома. И небо, знаешь, такое темное, густое… И так душно было! Так вот, когда я была совсем одна, в наш двор завернул путник. Это был старый-старый монах. Видно, он шел издалека: одежда запыленная, сбитый посох, старые стоптанные сандалии. У него было лицо человека, испытавшего в своей жизни много бед. Глаза строгие, внимательные, но добрые. Кисть левой руки была покалечена и почти не гнулась. А еще я заметила шрам на правой брови. Странный такой шрам… Будто он с ним родился! – Мать бросила на Тэдзуми взволнованный взгляд. – Я хорошо это запомнила.
– А дальше?
– Я учтиво приветствовала его и пригласила, как велят наши устои, присесть отдохнуть. Он устроился на маленькой скамеечке, что теперь всегда стоит у веранды. А я просто застыла рядом. Он все молчал, и я осмелилась предложить ему рыбы и саке. Я знаю, что монахам саке не положено, но иногда они сами… – Мать неопределенно пожала плечами. – Он отверг все знаками, не проронив ни слова, даже настой из душистых трав, и принял только чашку воды. Впрочем, и ее держал долго, неподвижно, низко склонив голову и тихо шевеля губами. Наверное, молился. Потом отпил один глоток и вернул мне чашку. Я было хотела унести ее в дом, но он вдруг произнес: «Пей». Так произнес, что я не смела ослушаться. Невозможно было ослушаться! Пока я пила, он заговорил снова: «Через год, в это же время, приготовь вымпел – ко дню рождения сына». Встал, благословил меня и ушел, не обращая внимания на начавшуюся грозу. А я в ошеломлении размышляла над его словами.
– Какой странный человек! И слова его оказались пророческими. Удивительно, правда, мама?
– О, да! Ты, сынок, родился ровно через год. И представь, в день твоего рождения также была гроза! И тогда я решила, что непременно должна сходить в один из монастырей. Хорошо было бы в тот, откуда пришел тот странный монах. Но где его искать? И не отшельник ли он? А теперь, спустя двадцать лет, это и вовсе потеряло смысл: монах и тогда был очень стар, так что вряд ли сейчас жив. Но все же хорошо было бы попасть хотя бы в Мампукудзи, что близ Киото, чтобы принести пожертвование и все такое… Но я так ничего и не сделала! И чувствую себя ужасно виноватой перед Небом. Прошу тебя…
– Я сделаю это сам! – горячо перебил ее Тэдзуми. – Я соберусь прямо сейчас и отправлюсь хоть завтра!
Она погладила его лоб прохладной ладонью – мягкий, знакомый с детства жест, умиряющий его горячность.
– Не завтра. Я сама соберу тебя в дорогу. А пока еще одно дело, по просьбе отца.
Тэдзуми уже знал, что она скажет, и, не желая показывать разочарования и досады, опять уставился в окно, на розовеющие сливы, под весом которых натруженно изогнулась длинная ветка.
– Сынок, – мать тронула его за локоть, – это же нетрудно. Навести перед паломничеством нашего ростовщика.
Тэдзуми молчал, мать увещевала:
– Он хороший и достойный человек! К тому же ты должен передать ему наш подарок.
– И наконец встретиться с его дочерью.
– Хотя бы и так. Пока это тебя ни к чему не обязывает. Сделай это сегодня же, не откладывай. К паломничеству, ты знаешь, не должно оставаться никаких долгов. А невыполненная просьба отца – долг.
Тэдзуми согласился: когда-никогда все равно пришлось бы нести шкатулку господину Хирохито.
* * *
Для паломничества мать выбрала монастырь Мампукудзи. «Моему сердцу, – сказала она, не желая утруждать ни себя, ни сына долгим выбором, – это место почему-то близко!»
Быть может, как самураю, Тэдзуми более пристало бы посетить храмовый комплекс в Никко – усыпальницу сёгунов рода Токугава, но мать все же решила иначе – можно сказать, наугад и случайно.