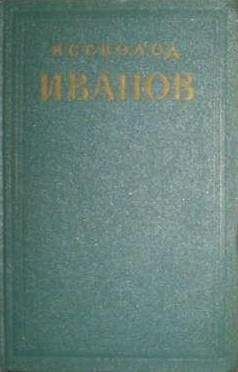В общем особняк не казался домом, защищающим и растящим что-либо высокое и честное, скорее всего он мог показаться домом, укрывающим преступления. Так оно позже и оказалось. История смела и унесла в безвестность и дом и обитателей его. На месте дома выстроена школа, а бывших обитателей вспомнит разве ненадолго беллетрист, желающий полнее охарактеризовать эпоху.
В первых числах июня 1920 года к этому особняку не спеша шли мужчина и женщина. Оба они были одеты в военное, оба несли мешки с провизией и оба, закуривая, оглядывались назад. Но и площадь Красных ворот, и Мясницкая, и переулки, в которые они углубились, были пустынны: они проходили ранним утром, лишь только скрылись патрули, обходившие город.
— Москва изменилась, — сказал мужчина, увидав особняк. — Но этот дом все такой же, как прежде.
— Не нахожу, — отозвалась женщина, глубоко затягиваясь папироской. — Может быть, ты редко ездил по Москве рано утром, а я езживала.
— Кутили?
— И кутили.
При их приближении к особняку навстречу вышел мужчина, тот самый, что всегда прохаживался с пистолетом. Приезжий, скинув на левую руку мешок, не здороваясь, сказал ему:
— Абажуров с женой к Заильскому от Иконникова с письмом.
— Пожалуйте. Давно ждут. Машина вас не встретила у вокзала?
— Не люблю в машине, — оказал человек с мешком. — Укачивает.
— Пожалуйте.
Мужчина и женщина с мешками прошли в особняк, а встретивший их продолжал разгуливать от ворот к крыльцу мимо акаций. Минут пятнадцать спустя к нему, тоже с мешком за спиной и с палочкой в руке, подошел старичок в крестьянской одежде, седенький и худой. Он оказал:
— Отец Абажурова к Заильскому от Иконникова. Сынок мой и невестка приехали?
— Прибыли. Пожалуйте.
И старичок вошел в дом.
Абажуров и его жена были Штрауб и Вера Николаевна; Заильский был Тухачевский, а письмо Иконникова — было письмо Троцкого. Старичок, назвавший себя отцом Абажурова, — был Ривелен.
Пятые сутки, день и ночь, Конармия билась под Дубно.
Пять суток без сна и отдыха! Но если сосчитать всю продолжительность боев на белопольском фронте, то окажется, что Конармия билась уже свыше сорока суток. Сорок суток без передышки и при таком плохом снабжении снарядами и конями, что даже всегда не унывающий Ламычев хватался в отчаянии за курчавую голову и кричал: «Седею!»
Пополнения людьми поступали тоже медленно, а вернее сказать и совсем отсутствовали. Еще в Таганроге создали управление формирований Конармии, но теперь его превратили там в дивизию, и оно не только не формировало части, а само ушло драться с Врангелем. Бригады, имевшие в мае по полторы тысячи сабель, теперь едва насчитывали по пятьсот, так что Пархоменко, ведший три бригады, в сущности вел одну. Часто белополяки отступали так стремительно, что усталые и голодные кони наши не могли догнать их пеший бег. И смешно и досадно до боли!
Ко всему тому шли слухи, что в командование западным фронтом Троцкий и Тухачевский требуют, чтобы Конармия для измышленного ими «удобства маневрирования» была передана в ведение западного фронта, то есть в их ведение! 12-я и 14-я армии, стоящие в соседстве с Конной, не могут, дескать, из-за того, что Конная находится в ведении командования юго-западного фронта, действовать согласованно, а оттого-де операции их проходят неудачно.
— Слышал о переброске нас на западный фронт? — спросил Пархоменко вернувшегося из Киева Ламычева.
— Слышал.
— Мнение всех военсцепов соберут. Их много пробралось! Как подумаю о них, так и полагаю, что, кроме Колоколова, ни одного порядочного военспеца нету.
— Есть. Но меня, Александр Яковлевич, военспецы не волнуют — скоро обучимся, сами военспецами будем. Меня конь волнует, Александр Яковлевич. Коней мне в Киеве дали мало.
— А людей?
— Людей и того меньше.
Когда Ламычев вошел, Пархоменко читал приказ командования юго-западным фронтом. Конармии поручалось, окончательно разгромив дубно-кременецкую группу противника, направить главную массу конницы на занятие Львова.
— Львов! Слышишь, Ламычев, Львов! Древняя украинская земля. Сердце трепещет, как скажу — Львов. Хороший приказ!
— Я тоже думаю — хороший. А как, Александр Яковлевич, львы с конями уживаются? Коняги в том Львове найдутся?
— И кони будут, и всякое другое снабжение, да и люди к нам подвалят. Во Львове — пролетариат.
— Дай-то бог! А то здесь мужик какой-то забитый. Не нравится он мне. Пана, верно, не любит, но к оружию тоже не способен.
— Будет их время, будут и способны.
— Дай-то бог! А то встретил я в Киеве такого хлюста, тоже военспец, сукин сын… Быков такой. Хохочет! «Ничего, говорит, у вас не выйдет!» Порубил бы я его, да говорят: «Нельзя — заручка у него большая; только ты, Ламычев, Конармии навредишь». Чуть ли не сам Троцкий за Быкова стоит!
— Стоит. На западном фронте оказались не очень-то мозговитыми, слабенькими. Ну, надо их ему выручать! Другими, которые умеют и хотят воевать.
— Нас?
— Нас.
— Так это ж ложь!
— Скользка глина, Терентий Саввич, а ложь еще скользше. Вот и думают они, что мы на этой лжи поскользнемся. Нам ухо надо держать востро. Быкова тогда изрубим, когда на прямой измене поймаем.
— Фу-у… Так это ж кругом измена! Упрел я от этих мыслей, как на четверке с выносом ехал. Не могу я так думать!
— Нет, ты думай. Опрокинули мы русский капитализм; класс гнилой. Ну, перешагнули. А гнилья-то много на подметках осталось, оно и заражает. Вот Львов займем, покажем пролетариату нашу силу, — будет легче.
— Надо Львов занять.
— Непременно займу Львов!.. Дай-ка, Саввич, карту. Что-то меня беспокоит, что вокруг Дубно много болот. Не люблю я болота… еще в империалистическую надоели.
Он задумался над картой. Ламычев, следя за его рукой, чертившей отметки на карте, спросил тихо:
— А чего ж ты все в болоте чертишь?
— А то, что, кроме болот, другого пути к Дубно нету. Позови-ка ко мне, Саввич, Колоколова, да вели собрать со всей дивизии белорусов. Там, помнится, в первой бригаде Григорий Отражной служит… он был ранен легонько под Ровно, наверное из лазарета уже выписался. Умный, помнится, боец. Его непременно пригласи. Через степи, реки, леса ходили, — через болота ли не перейдем?
— Да много их!
— Такая уж у нас земля: всего много. Ну, значит, со всем и управляться надо уметь. Управимся, поди, и с болотами…
Дубно действительно с трех сторон окружено болотами.
По плану, разработанному Пархоменко, Колоколовым и белорусами, конники прорвались по тропинкам среди болот и внезапно выскочили на холмы, поросшие сосной, дубом и грабом.
Но и на этих холмах, среди дубов и грабов, бесчисленны и мощны окопы, перевитые проволокой. Враг сопротивляется, а для того, чтоб он оказывал еще более упорное сопротивление, над красной конницей, сбрасывая бомбы, проносятся самолеты противника. Дубно не подпускало.
Особенно настойчиво защищали паны переправу и деревянные мосты через Икву. Бой затянулся. Самолеты летали часто. Дубно действовало…
В дивизию приехали Буденный и Ворошилов.
— Что это вы здесь копаетесь? Очищать надо дорогу на Львов.
— Замусорена дорога, товарищ Буденный.
Стали обсуждать положение. И было решено, дабы прекратить затяжной бой: одним полком производить демонстрацию и сковывать противника, а другим обойти и внезапно атаковать с тыла…
— И желательно в конном строю. Не любит пан конного строя!
— Каким полком атаковать?
— Выбирай сам, Александр Яковлевич.
— Я бы выбрал восемьдесят первый. «Шахтеры и донцы рядом большие молодцы», — такая уж у нас поговорка выработалась в дивизии.
— Действуйте, действуйте на Дубно!
Пархоменко, как всегда в серьезных операциях, поехал с командирами во главе колонны.
— Напрасно ты так рискуешь собой, Александр Яковлевич, — сказал ему Ворошилов.
— На войне, Климент Ефремыч, без риска нельзя.
— А все-таки побереги себя. Нарвешься когда-нибудь.
Пархоменко сказал, смеясь:
— Тогда, надеюсь, добрые люди скажут: хоть и нарвался, а для нас.
В дороге, среди бойцов, Пархоменко говорил:
— Что такое конь, товарищи? Конь есть твое второе сердце. Даже если ты струсил в бою, — это, впрочем вас сейчас не интересует, — конь тебя спасет, вытащит. Ну, а при движении вперед, вроде сегодняшнего, конь удесятеряет нашу силу. Это я испытывал часто! Перед боем вроде дрожишь, а как он под тобой пошел, вся дрожь в тебе проходит, и ты богатырем сидишь.
Он оглядел бойцов и сказал:
— Вот, вроде вас!
Перед тем как войти в высокую рожь, за которой стояли батареи врага, готовые бить по конникам с дистанции семисот метров картечью, Пархоменко выстроил полк.