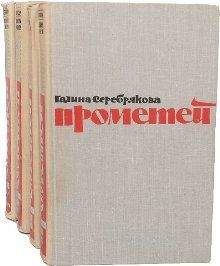— Это говорю не я, а Иисус, сын Сирахов. Итак, мой друг Мери: «Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчею в городе и упреком в народе и но осрамила тебя перед обществом. Ибо, как из одежд выходит моль, от женщин — лукавство женское».
Вторичный призыв колокола освободил Мери из-под словесной пытки.
Прежде чем уйти из дому, Страйс ежедневно перелистывал памятную книгу, которую называл «книгою мудрости» и завещал детям.
На первой странице, после цитаты из Экклезиаста, было написано:
«Рост мистера Страйса — 5 футов.
Вес мистера Страйса — 14 стон.
Капитал мистера Страйса — см. банковский счет № 1937 и завещание у нотариуса Пирнера (вскрыть после моей смерти).
Великие люди, которых рекомендую моим сыновьям для подражания: Соломон Мудрый, Питт-старший, Генрих VIII, мистер Ситри — пастор нашего прихода, а также Джон Лоу, если бы не обанкротился и не был шотландцем».
Опираясь на палку, фабрикант выходил на фабричный двор. Под навесом, где лежали тюки шерсти, ждали его малолетние рабочие. Их было свыше трех сотен. Страйс многозначительно размахивал тростью и усаживался на приготовленный стул. Начинался урок богословия.
— Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, но сидит в собрании развратителей, — вяло тянули дети; голоса их дрожали и обрывались.
Разрывая туман, моросил дождь.
Старое тряпье, в прорехах и дырах, едва прикрывало худенькие детские тела. Босые ноги почернели от грязи. Распевая псалмы, дети не переставали почесываться. Почти все болели чесоткой. Красные, слезящиеся глаза их говорили о свирепой трахоме и золотухе.
«Я разорюсь, если они снова начнут дохнуть, как вздумали это делать в прошлом году», — думал Страйс, поглядывая на подозрительно вспухшее лицо и лихорадочные глаза одного из мальчиков в первом ряду. Он подозвал ребенка к себе и брезгливо прикоснулся мизинцем к его лбу. Не оставалось сомнения в том, что мальчик в жару и болен. Мысль об оспе перепугала фабриканта.
— В сараи! — заорал он неожиданно громким голосом. — В сарай! Никто из вас не смеет подходить к больному.
Урок богословия прекратился. Дети поплелись на работу. Джордж Б. Страйс пошел в контору в крайне раздраженном состоянии духа. Удивительно, до чего трудна жизнь фабриканта! Того и гляди, оступиться. Повсюду препятствия и подвохи. Когда же наконец машины освободят его от рабочих, которые осмеливаются болеть и тем нарушать все планы!
— А! — сказал, немного повеселев, Страйс, увидев в конторе за перегородкой несмело жавшихся у стены мальчиков. — Что скажешь, Боб?
Боб шмыгнул вслед за хозяином. Он быстро, шепелявя, нашептывал все подмеченное и подслушанное на фабрике за истекшие сутки. Это был рыхлый рослый мальчуган с маленькими светлыми, шныряющими глазами. Страйс давно высмотрел Боба — и не ошибся. Из того выработался выдающийся шпион. Трое других, исполняющих такую же роль, мальчуганов были несравненно менее опытны в этом тонком деле.
Фабрикант выслушал утренние донесения маленьких лазутчиков, узнал все необходимое о замыслах и поступках фабричных ребят и отпустил Боба и его помощников после краткого наставления.
— Хотя я благодетель сирот и спаситель многих семей от голодной смерти, — сказал им фабрикант, — хотя я учу, кормлю вас и вам подобных, — сердца детей ещо менее, чем взрослых рабочих, способны испытывать чувство благодарности к своему спасителю. Я знаю, что нелюбим на фабрике. Даст бог, придет время — и прозреют незрячие, и устыдятся темноты душ своих. Ты, Боб, ты, Джемс, ты, Вильям, и ты, Поль, — единственные, исполненные преданности, мои рабочие. Верьте, Джордж Б. Страйс не забудет этого. В новом году вы получите куртки, штаны. На своей фабрике я — как на войне. Вы, верные разведчики, несете почетную службу и спасаете своих братьев, заранее предупреждая их преступные намерения, искореняя зло. Ступайте, дети мои, и будьте такими же добрыми сынами порядка и справедливости, как доныне.
Мистер Страйс остался весьма доволен своей проповедью и даже пожалел, что господь бог направил его на стезю торговли и промышленности.
«Если бы я отдался склонности к богословию, то был бы уже епископом», — решил он. Но приятные эти размышления были прерваны младшим сыном фабриканта, исполнявшим обязанности клерка. Он сообщил, что более двадцати детей оказались не в силах сегодня работать.
Но первому впечатлению, они все заболели оспой.
— О проклятье, они вгонят меня в гроб! — завопил Страйс и приказал изолировать больных в деревянном сарае.
Врача из города решено было покуда не вызывать.
— Пусть приедет, когда несколько из них помрет, что неизбежно. Это сократит расходы, так как все равно надо оформить их погребение и предать их земле по-христиански.
Джои легко разобрался не только в несложном ткацком станке, которым отныне управлял, не только в большом, обнесенном кое-как сложенным забором дворе, не только в нестройных, разбросанных домишках, называемых, однако, корпусами, но и в Джордже Б. Страйсе, своем хозяине. Мальчик очень скоро инстинктивно возненавидел фабриканта. В первый же день он почувствовал на себе его мягкую царапающую руку. Страйс надрал Джону уши за ничтожное упущение в работе и пригрозил оставить его без обеда.
От грязи на голове у Джона появился лишай, который постепенно покрывал все большую поверхность кожи, уничтожая на ней волосы и мучая нестерпимым зудом. Мальчик расчесывал пораженные места до крови. Но это было лишь началом испытаний. В первый же месяц работы на текстильной фабрике Джон свалился в оспе и оказался в переполненном больными сарае, предназначенном для хранения дров.
Зуд лишая был легким щекотанием по сравнению с тем, что принесла с собой оспа. Джон метался в жару, скрежеща зубами, разрывая скрюченными пальцами гнойные волдыри на лице и теле. По мнению миссис Страйс, изредка посещавшей своеобразную больницу, мальчик должен был обязательно умереть. Но наперекор всему Джон выздоровел. Его спасла сиротка Пэгги. В бреду Джон не узнавал хлопотливо ухаживающую за ним и приносящую ему еду девочку. Он звал ее именем сестры Мери.
— Я — Пэгги, — поправляла его маленькая работница, но Джон был слишком болен, чтобы понимать смысл ее слов.
Вопреки строгим наказам фабриканта, Пэгги по ночам и в короткие дневные перерывы пробиралась в дровяной сарай. Она оправляла тюфяк Джона, обмывала больного мальчика и, разжав его пылающие, обметанные лихорадкой губы, поила его бульоном или молоком, украденным на кухне у миссис Страйс.
Примерное поведение, незнание английского языка и потому невольная молчаливость помогли вкрадчивой девочке попасть в судомойки господского дома. Пэгги угождала дочери хозяина, пресмыкалась перед его сыновьями и женой и снискала у них такое доверие, что долго могла воровать все необходимое для маленького больного, которого обожала.
В свои неполные десять лет сиротка была насторожена и утомлена, как старушка. Ничего детского не осталось в выражении ее сморщенного зеленоватого личика, обрамленного прямыми волосами, пепельный цвет которых казался почти седым.
Пэгги имела о жизни, о людях, о земле свое особенное, но вполне законченное представление. Восьми лет она бежала из приюта от побоев, молитв и непосильного труда. В течение полугода удалось ей скрываться от полиции и попрошайничать у дверей кабаков и церквей. Пьяный дворецкий помещика, едущий за провизией в город, подобрал девочку на дороге и растлил ее в лесу близ Кардигана. В городе дворецкий — весьма религиозный человек — поспешно сдал беглянку полиции. Ее высекли, препроводили обратно в приют и вскоре продали на фабрику.
В десять лет эта девочка воспринимала жизнь, как большое незаслуженное горе. Люди в лучшем случае не замечали Пэгги. И только Джон отнесся к ней доверчиво и нежно, как некогда к горбатой, вырастившей его сестре. Этого было достаточно, чтобы все помыслы одинокого жалкого ребенка сосредоточились на Джоне. Краденая еда и уход Пэгги спасли мальчика от смерти. Но Пэгги за эту помощь Джону жестоко поплатилась.
На очередном утреннем докладе Боб сообщил Страйсу о проделках судомойки. Пэгги вызвали на допрос. Тщетно она ползала в хозяйских ногах и отчаянно ревела. Суд и расправу взяла на себя сама миссис Страйс. Подсчитав количество унесенного бульона, молока и кусков сахару, жена фабриканта впала сначала в оцепенение, потом в бешенство. Она самолично таскала Пэгги за волосы до тех пор, пока мягкая прядь из узенькой косички но осталась в ее руке. Потом девочку заперли в чулан и обрекли на суточную голодовку. И лишь после того, как мистер Страйс в утреннем наставлении объяснил жене, что они терпят потери, раз пара рук обречена на бездействие, Пэгги была возвращена на работу. Девочка недолго пробыла в промывочном цехе, где жара и холод попеременно тиранили детей.