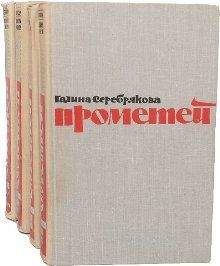Жизнь леди Варго была строго расписана. Утром леди выезжала кататься в большой, несколько потрепанной карете в сопровождении множества приживалок, родственников и слуг. После однообразно длинного завтрака и следующего за ним дневного сна помещица каталась верхом. Лошади и охота были главной страстью ее жизни. По вечерам иногда бывали степенные танцы и разгульная картежная игра с приглашенными соседями и столичными гостями.
Но случалось, что пожилую даму внезапно обуревал страх смерти. Тогда дом пустел. Вместо праздной заезжей толпы появлялись пасторы. Джона поражали легкость их походки и постные мины на красных, откормленных лицах. В замке с их появлением начинались непрерывные молитвы, богословские разговоры, чтение Библии и пение псалмов в гостиной.
В эти дни слуг не оскорбляли. Щеки горничных леди, обычно красные от пощечин, временно бледнели. Таков был мир, в который случайно попал ткач Джон.
Леди Варго, несмотря на свои шестьдесят лет, оставалась весьма чувствительной к мужской красоте. Она, как неукротимо страстная королева Елизавета Английская, ее героиня, будучи формально «девственницей», вознаграждала себя за отсутствие одного супруга несколькими десятками фаворитов. Остерегаясь злословия в своем кругу, она выбирала их среди своих слуг. Пересуды черни нисколько не тревожили знатную даму. Так, безумствуя в любви к лошадям, охоте, покаяниям и конюхам, проводила она жизнь.
Джон, однажды попавшийся на глаза могущественной в своем поместье старухе, заслужил полное ее одобрение.
Леди Варго сидела у зеркала и румянила землистые, обвислые щеки. Помада, прилипнув к морщинистой коже, окрашивала ее в неприятный фиолетовый цвет, и румянец походил более на заживающий синяк. Увы, леди Варго была руиной, не поддающейся никаким ухищрениям реставрации. Подросток-горничная расчесывала ярко-рыжий парик, завитой мелкими локонами. На желтом темени леди Варго кое-где, подчеркивая опустошения, торчали седые клочья волос.
Но легче всего привыкнуть к собственному безобразию. Леди Варго считала себя если и не очень красивой, то, во всяком случае, несомненно породистой.
Ее род был близок Стюартам, ее отец был адмирал, ее предок повесил на деревьях Черного леса несколько сотен взятых в плен воинов Кромвеля и подал ключ от дворца Карлу Второму.
Леди Варго не сомневалась, что кровь в ее артериях бледно-голубая, а в венах — синяя. Нос у нее был большой, горбатый, королевский. Старуха была в игривом настроении. Она подмигивала своему изображению в зеркале и долго полоскала беззубый коричневый, как дупло, рот.
Одновременно она почесывала костяной палочкой себе спину под кружевным пеньюаром. Блох в великолепном доме Варго было не меньше, чем в любом трактире Манчестера. К ним привыкли, как к пыли.
Ни одна из примет, основательно изученных леди Варго, не предвещала ей неприятностей, и тем не менее они явились — в конверте, на листе хрустящей бумаги с короной в углу. Их привез кучер из столицы. Двоюродный брат леди Варго, ее бывший любовник, ее предполагаемый наследник, старый лорд Сальсберри, доставивший английской короне немало земель и душ, а себе в соответствующей пропорции капиталов, удачно воевавший с американцами, не сумел отбить нападения подагры и погиб под ее ударами.
Леди Варго схватилась за парик. Лорд Сальсберри был моложе ее. Очевидно, подходила и ее очередь. У нее была не только подагра…
Дворецкому был отдан приказ очистить дом от праздных греховодов и послать карету за пастором.
Рыжие букли леди исчезли под широким черным чепцом из муслина. В доме был объявлен траур. Портрет лорда Сальсберри обвили черные ленты. Занавесили люстры и зеркала. Даже на ошейниках дворцовых собак было приказано прицепить печальные кокарды.
В замке началась суматоха. Леди Варго настиг приступ покаяния. Началось монотонное чтение Библии. Помещица истерически плакала, каясь в грехах, и сквозь рыдания пела старческим противным голосом псалмы.
Случилось так, что Джон, так и не научившийся расторопно служить за столом, опрокинул соусник на одного из особенно почитаемых служителей англиканской церкви. В тот же день, не дожидаясь распоряжения заметно разгневанной госпожи, дворецкий выгнал молодого лакея, снабдив его прозвищем болвана и но дав ему ни пенса жалованья. Джон, однако, без всякого сожаления снял с себя красный с золотом костюм и надел старую рубаху, рваные штаны, обул плетенные из ремней туфли и нахлобучил на снова растрепавшиеся волосы круглую войлочную шапку.
Лондон, куда он пришел за работой, встретил его очень сурово.
Джон по-обычному отбивался от нищеты, сторожившей его повсюду. Он был грузчиком, каменщиком, слугой, разносчиком. Хотел было стать пекарем, но цех строго отбирал подмастерьев и не взял его.
В одном из ночлежных домов, проходя мимо нар, Джон наткнулся на мать. Она узнала его и окликнула. У старухи давно паралич. Это спасло от голодной смерти. По утрам она выползала на улицу, волоча ногу и протягивая прохожим обнаженную омертвелую тощую руку со скрюченными пальцами, удачно выклянчивая подаяние.
Сытые торговцы доставали расшитые кошельки, богомольные дамы останавливали карету, опасливые зажиточные мастера рылись в больших карманах и торопливо откупались от немощей, возможных кар, от ада, от неприятных совестливых размышлений медными грошами.
— Я жила бы совсем сносно, если бы но другие нищие. Их много, как блох, в Англии, — жаловалась на конкуренцию мать сыну.
Переходя от одной перепадавшей работы к другой, Джон не переставал тосковать но текстильной фабрике, на которой вырос. Он по-иному слушал теперь издалека стук прялок и скрип текстильных сверчков — ткацких станков. Они казались ему мелодическими и убаюкивали по ночам. Так моряка никогда не оставляет напев морского прибоя. Джон рвался к поневоле оставленной профессии.
Собрав несколько грошей на дорогу, Джон вместе с матерью на крестьянской телеге покинули Лондон. Они думали пробраться в Шотландию. По пути, оставшись без средств, принуждены были задержаться в красивом тихом Йорке. Случай доставил Джону работу на чулочно-вязальной фабрике, и он задержался в главном городе Йоркского графства на несколько лет.
Джон вернулся к станку. Он был вначале счастлив и почти не примечал перемен вокруг.
Это было тяжелое время. Хлеб стоил дорого. Рабочие позабыли вкус мяса и молока.
— Проклятые годы! — говорили вокруг Джона.
Мать его, не встававшая с тюфяка в черной каморке на чердаке, торжествующе пророчила конец миру.
Краем уха Джон слыхал о всемогущем Наполеоне, о кровопролитных войнах на море и материках. Хозяева фабрик, ссылаясь на неурядицы, войны, революцию (смысл слова этого был Джону неясен), на французских безбожников, урезали и без того мизерную плату, сокращали рабочих.
Думая над предсказаниями старухи о конце света, Джон замечал, что не испытывает огорчения.
Джон верил, что где-то была война, но в спокойном Йорке дни опадали, как листья по осени.
Джон впервые попал на большую, оборудованную паровыми машинами фабрику. Впервые он услыхал стройный гул больших машин. Люди этих фабрик были еще более несчастны, чем невольники Джорджа Б. Страйса, Что-то странное творилось с ними.
— Прежде, — говорили рабочие, — наши отцы знали, что, однажды ставши к станку, подле него и помрут. Умение ценилось хозяевами, умение и знание дела. Но потом не стало нужно ни силы, ни умения. Желторотые дети заменили опытных, умелых людей. День ото дня становится нам хуже. Скоро и дети не понадобятся. Черти в образе машин будут ткать и прясть вместо нас. Что делать рабочему люду? Помирать? Ради чего? Ради железных чудовищ, ради пара. Но земля дана людям, а не машинам. Бог создал человека, а человек осмелился посягнуть на его творение и пытается заменить живое существо бездушными вещами. Не может бог не проучить людей за безумие их.
Фабриканты торопились рассчитывать ненужных им теперь лучших рабочих. Джон видел, как его товарищей заменили многорукие, неутомимые, одаренные как бы бессмертной силой существа из металла и дерева. Наиболее искусные, трудолюбивые человеческие руки оказывались беспомощными, недопустимо слабыми по сравнению с цепкими щупальцами и ловкими, беспечно вертящимися колесиками машин.
Цех, где работал Джон, обезлюдел. Вокруг зловеще, издевательски гудели, верещали, скрипели новые машины. Каждая из них была исчадьем ада, ниспосланной карой, причиной лишений и мук для тех, кого она заменила.
Суеверный, мистический ужас обуревал ткачей. В гуле машин им слышались угрозы скорого увольнения с фабрики, вопли голодных детей, старушечьи предсказания бедствий, которые несет безработица. Джон плакал от бессильной злобы и тоски, вспоминая ручные станки и прялки, казалось, ту счастливую пору, когда в фабричном цехе толпились, шумя, люди. Что делать, как остановить нашествие демонов, ниспосланных сатаной на бедняков? Как заставить расчетливых фабрикантов предпочесть человека машинам?