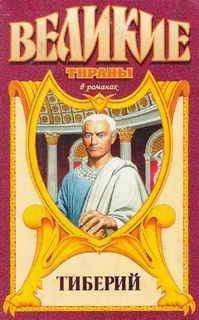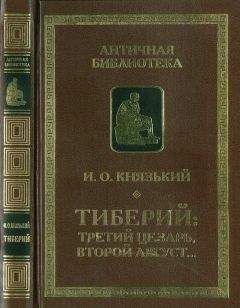— А что твои дети? — спрашивала Ливия с затаенным интересом. Пренебрежение и ненависть со стороны родного сына рождали в ней незнакомое ранее любопытство к отношениям детей и родителей в других семьях.
— Нерон и Друз — мои главные утешители, — отвечала Агриппина. — Но и боюсь я за них поэтому. Особенно за Нерона, ведь он защищает меня перед всеми, где только можно, и при этом не следит за словами. Один раз я слышала, как он говорил, что, если бы стал императором — а он, как известно, имеет на это право, — то первым делом посадил бы на кол Сеяна и всех его шпионов. И эти слова слышали несколько человек, двое из которых как раз и были шпионами Сеяна. Я убеждаю Нерона быть осторожнее, но он меня не слушает!
Ливия с удивлением и страхом замечала, что любовные нотки, звучащие в голосе Агриппины, ее очень трогают. Пожалуй, этого — любви к своим сыновьям — Ливия никогда не испытывала. Ни к Друзу, ни тем более к старшему своему сыну. А как бы сложилась жизнь, награди ее боги такой любовью? Что, если и она сохранила бы способность плакать от любви и гордости за своих сыновей или от сострадания к их бедам? Ливия пыталась представить себе старшего, Тиберия, в тот момент, когда его требовалось бы пожалеть. Да разве он недостоин жалости? Старый, всеми ненавидимый, внушающий лишь брезгливость и страх, — и в то же время глубоко несчастный, хотя и не понимающий этого. Или все-таки понимающий? Ливия с чувством, похожим на ужас, начинала испытывать к Тиберию жалость — впервые в жизни! Он был ее сыном. Она носила его внутри себя, кричала от боли, когда он выходил наружу. Она была всегда его хозяйкой, а он был ее собственностью — до поры. Теперь отношения хозяйки и раба разрушены. И что осталось? Была злоба, был страх! И вот — их не стало. Ливия смотрела на — плачущую Агриппину и сама еле удерживалась от слез. Может быть, ей не следовало лишать себя и сыновей такого простого счастья, как взаимная любовь.
И может быть, это было главной ее ошибкой в жизни?
Поразительно: Агриппина, как только Ливия ощутила к Тиберию жалость, больше не отзывалась о нем слишком резко. Одна мать поняла другую — своим любящим материнским сердцем.
Но, к сожалению, Ливии не удалось насладиться новым состоянием. Она не успела даже написать Тиберию последнее письмо, в котором хотела попросить у него прощение за все и попытаться выразить словами то, что начала чувствовать к нему. Она умерла на следующий день после разговора с Агриппиной.
Задело сразу взялся Сеян. Он без церемоний оцепил дворец Ливии гвардейской стражей, прошел внутрь и произвел обыск. Перевернул и спальню, в которой лежало тело Ливии. Ушел из дворца очень довольный — ему удалось обнаружить тайник, где хранились письма Августа. Саму хозяйку пока трогать было не велено — до особого распоряжения императора, ведь это дело касалось лично Тиберия.
Ее и не трогали — не осмеливались даже начать готовить тело к погребению. Она так и лежала в темной и душной спальне, и рабы, проходя мимо, зажимали пальцами носы — такое распространялось по дворцу зловоние.
Тиберий, разумеется, тотчас же узнал о смерти матери. Он был вне себя от радости и сразу же сел писать постановление об отмене назначенных Ливии божественных почестей — он знал, что сенат непременно назначит их. В этом не отправленном еще послании также запрещалось присуждать покойной титул матери отечества — Тиберий знал, что Ливия ничего так не хотела в последние годы, как этого.
Около десяти дней прошло в переписке с сенатом — в конце концов был утвержден эдикт императора, по которому покойную следовало хоронить на общих основаниях, не уделяя внимания каким-то ее особым заслугам перед отечеством. Необходимая пышность будет сообщена церемонии тем, что Тиберий примет в ней участие и как верховный понтифик принесет положенную жертву. До прибытия императора в Рим производить какие-либо действия, связанные с похоронами, запрещалось под страхом смерти.
Однако приезд Тиберия откладывался и откладывался. День проходил за днем, неделя за неделей, и каждый раз в сенат приходило письмо, в котором император извинялся, что не приехал, как обещал, и назначал новую дату своего прибытия. Так прошло почти два месяца.
Он так и не приехал. Просто разрешил хоронить без него.
Теперь это было сделать непросто. На погребальном костре должно находиться тело, а не кучка костей, облепленных гниющим мясом — а именно так выглядела Ливия, когда фламины Августа и женщины-обмывалыцицы вошли в спальню. Ее хотели поднять с ложа вместе с простынями, но те тоже сгнили — пришлось искать новые и перекладывать останки уже на них. Последние почести, оказываемые Ливии, когда-то владевшей половиной мира, напоминали процесс труда городского ассенизатора, очищающего нужник. С Ливией произошло то же, что со всяким трупом, чрезмерно долго находящимся в тепле: сначала она раздулась, потом лопнула, а там — черви доделали остальное: вся кровать была ими покрыта.
Отделив от червей все, что было еще можно, Ливию отнесли в подвал дворца, где над ней принялись работать специалисты, обучавшиеся в Египте. Но даже им пришлось развести руками. Выход был найден после нескольких дней бесплодных попыток создать из гнилых костей подобие тела. Из пергамента смастерили маску, отдаленно напоминающую лицо покойной, натянули на череп и раскрасили. Под покрывало наложили тряпок — что имитировало тело. Впрочем, церемония похорон была недолгой, даже поспешной, а кто мог задать себе вопрос, отчего Ливию хоронят через два месяца и во что должен был превратиться ее труп, — тот наверняка этот вопрос задал. А огонь погребального костра, как известно, пожирает все, что на него возложено.
Вскоре Тиберий взялся за Агриппину и ее сыновей.
В сенат поступили материалы, доказывающие вину Агриппины в государственной измене. Донесения агентов были присланы отовсюду: больше всего — из лагеря римских войск на Рейне. Там люди Агриппины вели подстрекательскую работу, призывая офицеров мстить за погубленных Германика и Друза Старшего, поддержать молодого Нерона в борьбе за императорский титул. Назывались даже суммы вознаграждений, обещанных Агриппиной каждому, кто присоединится к ее партии.
Тиберий, не выезжая с Капри, руководил сенатским расследованием. Он писал, что ознакомился с материалами дела, очень огорчен и более того — испуган. «Пожалейте, отцы сенаторы, меня, немощного старика, на жизнь которого покушаются даже самые близкие его родственники» — так он завершал свое послание.
Но разбирательства не прошли так гладко, как ожидал Тиберий, привыкший к сенатской покорности. Совершенно неожиданно сенаторы воспротивились оказываемому на них нажиму. И больше всех — Азиний Галл. Он, после того как сенатским протоколистом было оглашено все собрание документов по делу Агриппины, встал и во всеуслышание объявил, то все это ложь, от первой до последней буквы. Он хорошо знает Агриппину: она никогда не призывала к измене — никого. Она хранит память о Германике, учит сыновей быть во всем похожими на него. Разве это преступление? Ведь Германик — народный герой, которому сам Тиберий не раз отдавал должное. Наверное, сказал Галл, Тиберия просто ввели в заблуждение, показав ему сфабрикованные документы и поддельные письма. И он, Галл, догадывается, кто это сделал. Да что там Галл — все догадываются, что козни против Агриппины дело рук Сеяна!
И случилась небывалая вещь — сенат единогласно издал постановление, объявляющее Агриппину невиновной, а Сеяна — врагом отечества. Весть об этом мгновенно разнеслась по всему городу. Начался настоящий переполох — как во время народных праздников. Огромная толпа окружила здание сената. «Сеян обманул императора!» — кричали люди. «Сеяна — в Тибр!», «Да здравствует император!», «Да здравствует Агриппина!»
Сеян, находившийся в Риме, неподалеку от сенатского здания в ожидании положительного решения, чтобы сразу начать аресты обвиняемых, понял, что находиться здесь ему опасно, и скрылся в преторианском лагере у Виминальского холма. Для этого ему пришлось проделать длинный кружной путь, избегая встреч с приверженцами Агриппины. Все городское население, казалось, было на ее стороне.
Оттуда, из лагеря своих гвардейцев, Сеян бросился к Тиберию. Выбирать удобное время для визита не было возможности, и, когда дежурное судно причалило к острову, была уже ночь и император спал. Сеян, имевший доступ к хозяину во всякое время суток, лично разбудил его.
— Беда, цезарь! — сказал он, глядя в искаженное страхом лицо Тиберия, — Сенат взбунтовался. Рим — тоже. Все висит на волоске.
Сеяну пришлось повторить все несколько раз, чтобы до впавшего в оцепенение Тиберия дошло. «О боги, — подумал Сеян, — как он мерзок в своем испуге. И как он уже стар — наверное, долго не протянет. Однако сейчас он мне нужен».
Как всегда, у Сеяна был готов план действий, за который император немедленно ухватился. Итак, он пишет сенаторам самое грозное письмо, какое только может, в письме обвиняет всех, не называя имен, в оскорблении императора. «Это стадо баранов, — сказал Сеян, — ненадолго забыло, что оно — стадо баранов, и вообразило себя стаей волков. Ничего, окрик императора приведет их в чувство, а потом неплохо бы провести по улицам Рима несколько преторианских когорт в полном вооружении». Тиберий одобрил и эту мысль.