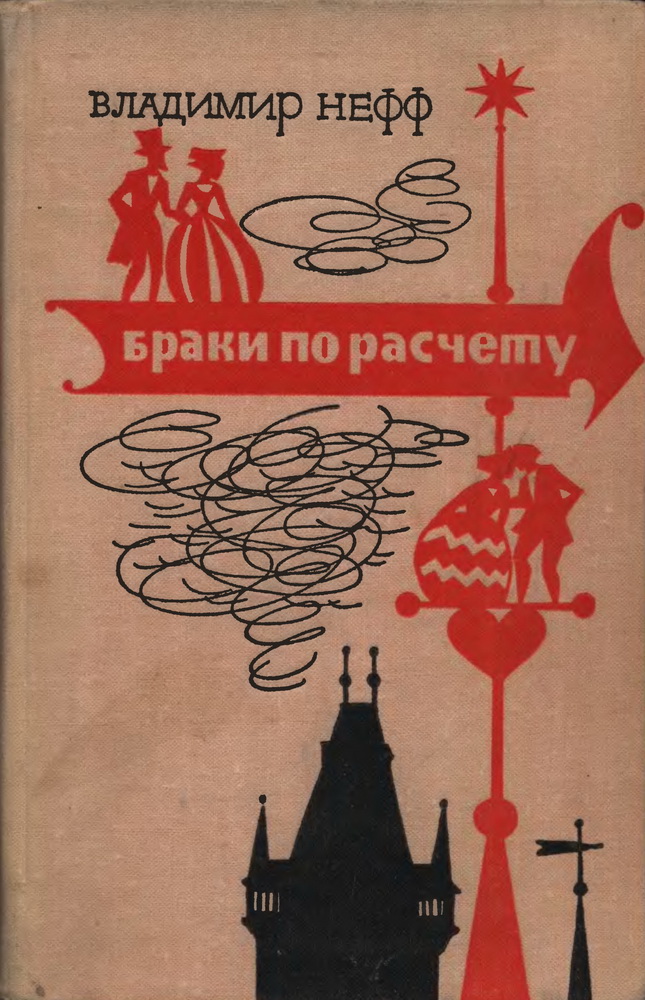таким господином, как Борн, ничего не станется, такой может себе позволить роскошь и в тюрьме посидеть. «Всегда и во всем надо быть бабе правой, — подумал он. — Как нарочно, всегда так выходит, чтобы баба могла свое бубнить: я, мол, говорила, я, мол, предупреждала».
Настроение Борна значительно улучшилось, он вновь обрел свое гладкое баритональное красноречие. Он не упрекал больше Пецольда за участие в рабочей сходке, зато тем больше толковал о значении общенациональной борьбы против централистских устремлений Вены и о том, что эта борьба воскрешает к жизни самосознание чешского народа, до недавних пор помраченное, как при обмороке.
— Да вы не слушаете меня, — сказал Борн, поймав отсутствующий взгляд Пецольда. — Неужели вам все равно, если чехи перестанут быть чехами и потеряют самое драгоценное — свой язык?
— Не знаю я, ваша милость, — ответил Пецольд. — Мы ведь и так чехи, и никогда нам в голову не приходило, чтобы наш брат мог быть кем иным.
— «Нам», «наш брат», — повторил Борн. — Кто это — мы, наш брат?
— Да мы, рабочие, — сказал Пецольд.
— Ах так, — молвил Борн.
Десятого ноября, после того как по распоряжению министра юстиции следствие по его делу было закрыто, Борна выпустили из тюрьмы; его место в камере тотчас занял круглый, румяный торговец спиртными напитками, все еще потрясенный и возмущенный тем, что с ним приключилось. И было чему дивиться; незначительность повода к аресту этого человека произвела сенсацию среди политических обитателей Новоместской тюрьмы. Торговец пустил в продажу горький, на травах настоянный, ликер с наклейкой, где было написано: «Чтоб не жало», а прокуратура увидела в этом скрытый намек на слова Бойста о том, что он прижмет к стене славян, напрасно торговец объяснял, что он вовсе не имел в виду слова Бойста, что он даже и не слыхивал, чтобы пан Бойст когда-либо высказывался о каком-либо прижиме, поскольку никогда политикой не занимался, а название ликера имеет отношение всего лишь к тому, чтоб не жало желудок.
— Затягивают узду, значит, дело всерьез пошло, теперь не до шуток, — прокомментировал этот случай редактор Шимечек.
Дело и впрямь пошло всерьез, и действительно стало не до шуток. Так как никакие запрещения не помогали и митинги продолжались, становясь все более бурными, венское правительство объявило в Праге чрезвычайное положение с военными судами. По улицам ходили сильные военные патрули в полном вооружении. Всем управам Чехии было объявлено, что в каждый населенный пункт, где произойдут беспорядки, поставят на счет общины карательный военный отряд. Постепенно были закрыты все чешские газеты. Арестовывали массами, без разбору, тюрьмы не могли вместить всех схваченных. В страну вернулось спокойствие.
Одиннадцатого ноября, выйдя с прочими политическими на заснеженный двор, Пецольд сильно испугался: он увидел друга своего Фишля, который только что вышел из противоположного коридора, маленький, зябко кутавшийся в короткий серый халатик с заплатами на локтях. Следователь не лгал — комиссар Орт действительно до тех пор искал самозванного оратора с Жижковой горы, пока не нашел его.
Совесть у Пецольда была чиста, чище быть не могло; и все же его охватило опасение, как бы Фишль, не дай бог, не подумал, что он, Пецольд, выдал его; это опасение заставило беднягу покраснеть до ушей. А Фишль действительно так подумал, и когда Пецольд робко шагнул ему навстречу, чтобы поздороваться с ним и сказать что-нибудь утешительное в том смысле, что мы, может, и посидим тут, но не будет того, чтобы нам тут сгнить, — дружок его плюнул ему под ноги и повернулся к нему спиной со словом: «Крыса».
Именно в это самое время, в те снежные дни в начале ноября шестьдесят восьмого года, к огромной радости Недобыла и Валентины, оказалось, что все ее жалобы на ухудшение здоровья были совсем неоправданны. Признаки, опечалившие и уронившие ее в собственных глазах — ведь она еще не достигла тех лет, когда женщины утрачивают способность к материнству, — оказались предвозвестниками не надвигавшейся старости, но новой жизни. Валентина была в интересном положении, ждала разрешения от бремени к апрелю будущего года, а по тому, как проходила ее беременность, по изменившимся чертам лица, по частым приступам дурноты опытные люди судили, что она носит под сердцем сына. Судьба сулила исполнить единственную и последнюю еще несбывшуюся мечту Недобылов; единственное и последнее, чего им еще не хватало для полного счастья, должны были обрести и родители Мартина, которые очень полюбили Валентину, но потихоньку пеняли ей за то, что она не подарила им внука.
Мартину досадны были скрыто-горькие замечания, которыми при нечастых свиданиях батюшка охлаждал его пыл, когда он хвастался своими успехами в деле; раздражали все эти батюшкины «только для кого все готовишь-то?» или «ох, и будет смеяться тот негодяй, которому все после тебя достанется». Поэтому, когда ошибки уже быть не могло, Мартин, лопаясь от гордости, усадил Валентину в вагон первого класса, укутал тремя пледами ее больные ноги и, обложившись сумками и коробками, отправился с нею, победоносный, сияющий, в Рокицаны. «Ну как, все еще ломаете голову над тем, кому после меня все достанется?» — скажет он батюшке. Потом он оставит свою неоценимую, теперь во всех отношениях драгоценную Валентину в тепле у матушки, а сам поедет дальше, в Пльзень, где завтра, одиннадцатого ноября, должен был состояться аукцион по распродаже того, что после шести лет безнадежной борьбы с железной дорогой осталось от крупной извозной фирмы Коретца, некогда могущественного конкурента старого Недобыла. Мартин там, может быть, что-нибудь купит дешево и выгодно — а может быть, и не купит; но в любом случае после аукциона он вернется в Рокицаны и пробудет там с Валентиной еще четыре-пять дней, просто валяясь, греясь в лучах радости и любви и не делая ничего, совсем ничего. Это будет первый отпуск его и Валентины за четыре года, что они женаты.
Таков был его план.
— Ну как, батюшка, вас еще заботит, кому после меня все достанется? — спросил Мартин, когда несколько спала волна первой радости, когда отчмокали поцелуи и разомкнулись объятия, когда были открыты коробки и розданы подарки, привезенные Валентиной родителям Мартина.
И Леопольд Недобыл, совсем уже беленький, с редким снежным пушком на розовой толстой голове, всплакнул на радостях.
— А я-то, старый дурак, сколько в жизни страху натерпелся, — всхлипывал он. — Сколько мучений принял, а все из пустого! И банкротства не случилось, и сын у меня богач, сношенька сахарная, и мы хорошо живем, а теперь еще и внучек будет, эдакий пузанчик маленький, дедом меня будет звать!