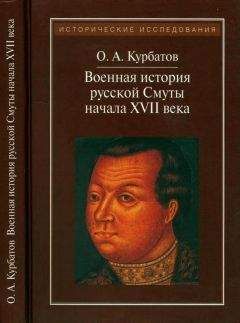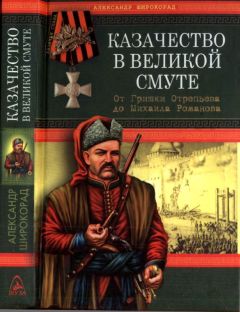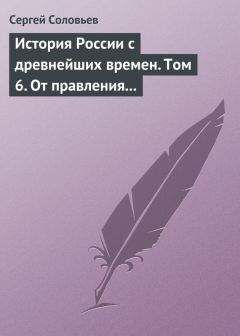Староста низко кланялся и говорил:
— Господи, нешто мы не понимаем! Мы князюшку во как почитали!
— То-то! — подтвердил Силантий. — Ну, а теперь и поесть пред дорожкой!
Силантий уселся и начал пить и есть с таким аппетитом, словно горе ни на миг не притупило его чувств. Свечерело. Силантий грозно приказал Маремьянихе укладываться спать, а сам вышел со двора. Чтобы отвести следы, он сделал огромный обход и, крадучись, подошел к месту пожарища. Только он один знал тайное место, где лежали княжеские богатства. Он отгреб уголья, нашел дверь дубовую, сбил с нее замок и полез в глубокий подвал. Там он зажег лучины и деятельно принялся за работу. Вдоль стенки подвала стояли рундучки, полные серебра и золота, жемчуга, камней самоцветных; выше, на полках, стояли драгоценные ковши, кубки и фляжки; а дальше, по углам, грудами были навалены парча, камка[13] и дорогие меха. Силантий быстро, в углу подвала, стал копать глубокую яму, пот лил с него ручьями, он копал, не зная устали, и наконец вырыл яму чуть ли не в свой рост. Бросил он туда один мех наудачу, как подстилку, и начал сыпать в яму деньги; один только рундучок оставил. Потом высыпал и камни самоцветные и положил сверху сосуды и кубки дорогие, прикрыл все опять мехом и заровнял яму. После этого разметал он по всему подвалу меха и парчу, разбил рундучки пустые, огляделся и пробормотал:
— Так ладно будет: кто заберется сюда — подумает, ляхи хозяйничали.
Он довольно усмехнулся и полез из подвала, таща за собой тяжелый рундучок. Еле-еле дотащил он его до сада и там у большой обгоревшей липы стал копать опять яму, а затем опустил в нее рундучок, вынул из него несколько горстей монет и засыпал яму.
«Это нам про запас», — подумал он и тихо пошел к старостиной избе.
Уже светало, когда Мякинный постучался в избу, после чего, войдя, вытянулся на лавке.
— Ишь, черт, куда деньги прячет! — радостно хлопая себя по бедрам, сказал Федька Беспалый.
Чуть побледнела ночь, вышел он опять к пожарищу пошарить добра и увидел, как Силантий закапывал рундучок под липой. Едва-едва дождался Федька, когда уйдет Силантий, быстро очутился у липы, железной скобой нацарапал на коре ее метку и, весело смеясь, пошел в свою избу.
Федька Беспалый был одинок. Круглый сирота, без сестер и братьев, он не захотел жениться и жил бобылем, все свободное время находясь во хмелю. Не охочий до тягла и до ратного дела, он только и думал, как бы получить вольную да в купцы пойти. Открыл бы он постоялый двор; девчат-бобылок к себе переманил бы и устроил бы такое кружало, что в Москве звон был бы слышен. И Федька чувствовал, что уже близко время осуществления его заветной мечты: с каждого путешествия в Калугу он зашибал себе деньгу, потом наградил его русский боярин Терехов, что с княжной виделся, потом Ходзевич, а там на пожаре он хорошо нажился, а теперь… истинно Бог ему помогает, недаром, значит, он пообещал Николаю Угоднику пудовую свечу.
В просторной красной горнице крепкого, на диво сложенного дома, что стоял у самой соборной церкви на площади в Рязани, за длинным столом, заставленным жбанами и кубками, сидели люди, среди которых можно было узнать и Терехова-Багреева с Семеном Андреевым. В челе стола сидел русский богатырь в красной кумачовой рубашке. Рыжеватая борода лопатой, кудрявая голова и острые, со стальным блеском, серые глаза делали его красавцем. Это был знаменитый Прокопий Ляпунов, рязанский воевода, к голосу которого издавна привыкли рязанские люди. Рядом с ним сидел его брат и единомышленник Захар, а вокруг стола сидели все друзья, занятые все одной думой о дорогой родине.
— Так ничего и не вышло? — грустно повторил Прокопий Ляпунов.
— Ничего! — ответил Терехов. — Да и то сказать, из недоносков князь-от этот. Ни тя ни мя! Просто — дурашливый какой-то.
— А, поди, силу взял! — заметил Захар. — Его именем только и держатся русские люди подле «вора».
— Ну и Бог с ним, коли не вышло! — перебил брата Прокопий. — А наше дело впереди. Правда всегда наверху будет. А теперь, дорогие гости, так рассудим. По разумению нашему, после того как Скопин убит, зельем изведен, негоже сидеть Шуйскому на троне. Али без него людей не найти?
— Это ты верно! — согласились гости.
— Я так понимаю, — продолжал Прокопий, — пусть теперь пойдет на Москву Захар с Телепневым — там немало рязанцев наших, и пусть говорит от нашего имени, что, дескать, пора Шуйскому и на покой, пока-де он на престоле — дотоле и смута, и междоусобица. А тем временем мы здесь по городам грамоты разошлем, народ поскличем. Понемногу и с силой соберемся.
— Так, так! — весело отозвались гости. — Может, и поднимем матушку-Россию Христовым именем!
— Не может быть иначе! — восторженно воскликнул Захар. — Верю в Русь и в ее силу; не сломить ее ляхам поганым!
— А теперь, друга, час поздний, — сказал Прокопий, — выпьем, да и разойдемся. Иди, Захар, и ты, Телепнев, завтра и в путь! Мешкать нечего. Смотри, поляки в дорогу сбираются; как есть пути отрежут!
— Мы ужом проползем, — усмехнулся Захар. — А выпить можно!
Гости налили кубки и стали пить, но никто не находил веселых речей для оживления. Всякий рассказывал только такие вещи, от которых переворачивалось сердце и кипела кровь.
— В Москве-то что было, когда Михайло Скопин-то помер, страсть! — сказал Астафьев. — Завыли все, что ребята по отце; молодцы с торговых рядов прямо на дом. Дмитрия Шуйского бросились, разбить хотели!
— Говорят, она яду-то ему поднесла?
— Кто же, как не она? На то и дочка Малюты Скуратова. Только вот кто научил ее, то неведомо.
— Говорят-то что?
— Всяко. Говорят и про царя, и про Дмитрия; говорят и про поляков. Одно верно, что отравили.
— Полячье-то обрадовалось!
— И не говори, — подхватил Хвалынский. — Слышь, король на Москву рать посылает, гетмана Жолкевского шлет!
— А в Москве Дмитрий Шуйский{14} да Голицын{15} собрались, — сказал Астафьев. — Немцев наняли, французов. Делагарди-то{16} ушел.
— Славный воин, даром что швед! — сказал Ляпунов. — Честно служил!
— Ну, а вы что видели? — обратился Захар к Терехову и Андрееву.
— Да мало веселого, — ответил Терехов и начал рассказывать про выжженные села, про разоренные города, про людей, которые без крова, как звери, в лесу прячутся, про Калугу, где «вор» с еретичкой Мариной царей представляют, народ мучают и во все концы через казаков и поляков шлют разорение России.
— Ох, тяжко, тяжко! — простонал Прокопий, склоняя голову, а потом осушил свою чарку одним духом и решительно сказал: — Пора и по домам, братцы!
Гости поднялись и, прощаясь с хозяевами троекратным лобзанием, вышли из дома. Терехов и Андреев пошли вместе. Непроглядная ночная тьма окружила их, но они знали наизусть родной город и смело шли по улицам, направляясь к дому Терехова-Багреева. Отец Терехова был именитым боярином и как представитель Лжедмитрия ездил отвозить подарки Марине Мнишек. Верный клятве, он один из немногих погиб в страшную майскую ночь 1606 года,{17} защищая расстригу. Вследствие этого потом, при возведении на престол Шуйского, род Терехова оказался в опале и его сын жил в Рязани, удаленный из Москвы. Но это не мешало ему быть одним из тех русских, чье горячее сердце своей верностью поддерживало в других сердцах слабый огонь патриотизма.
Андреев, сын служилого дворянина, сирота, как и Терехов, нес повинность, но в последнее время, выслав в Москву на весь свой достаток десять ратных людей, лично сам отдался делу освобождения, пристав к партии Ляпунова. Раньше он служил Шуйскому, ходил с ним под Тулу за Болотниковым, дрался под Москвой с тушинцами; но потом, когда отошел Ляпунов от Шуйского со своим рязанским ополчением, и он оставил московскую расстроенную рать.
Медленно поднимаясь, приятели дошли до тесовых ворот дома Терехова и стукнули в калитку. Молча перешли они двор и вошли в горницу. Каждый думал свою думу, и не было охоты повторять ее даже своему другу. Сердце Терехова было полно любовью и вовсе не чуяло беды, которая уже разразилась над его головой в виде похищения его ненаглядной Ольги.
Не только буйные жолнеры и молодые пахолики, стоявшие у городских ворот, даже седой ротмистр Гнездовский расхохотался при виде странной пары, въехавшей в Калугу ранним утром в марте 1611 года.{18} На тряской повозке, на мешке с сеном, сидела толстая старуха с красным носом, толстыми губами и крошечными глазками, смешно одетая в сарафан и кокошник, а верхом на коне, везшем повозку, ехал высокий и длинный, как жердь, старик со щетинистыми усами; на его голове был кожаный шлык, на плечах толстые войлочные латы, а у пояса висел длинный дорогой меч.