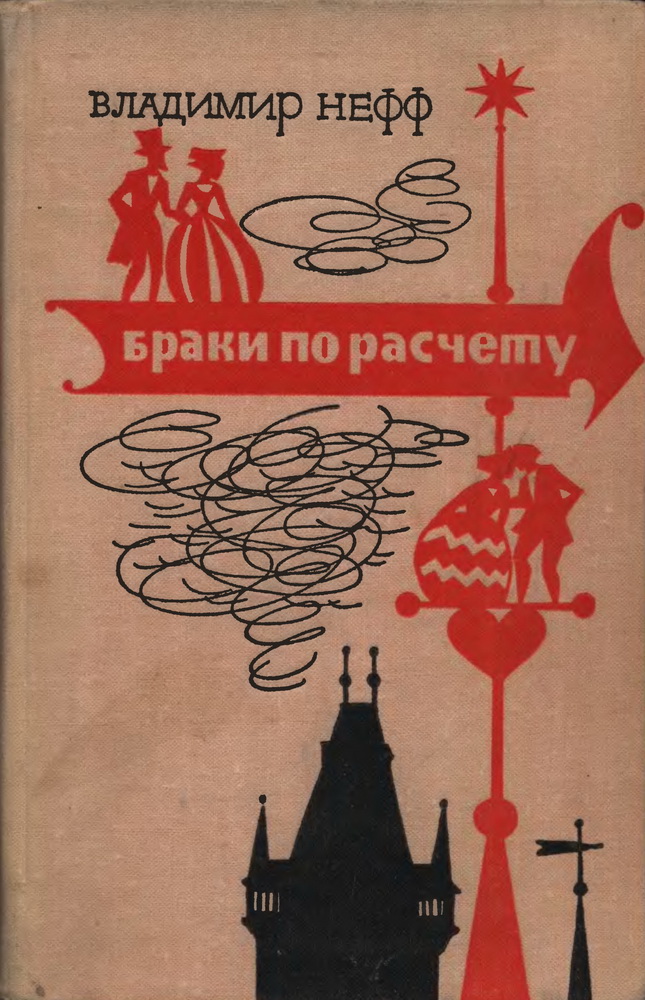под рукой доказательство неверности. Высморкайся, да пойдем к старикам, не то подумают, бог весть что случилось.
— Когда мы поедем, маменька? — спросила Лиза.
— Ближайшим поездом, — ответила Валентина. — Чтоб поскорее отделаться.
Ближайший поезд уходил рано утром. После беспокойного и недолгого сна Валентина встала осторожно и тихо, как мышка, оделась в темноте и, прежде чем выйти из спальни, перекрестила лоб крепко спавшего Мартина. За окном было темно, призрачно белели сугробы. Лиза, ночевавшая в столовой, стояла уже одетая у окна, бледная, и дрожала мелкой дрожью. В комнате осторожно, беззвучно суетилась матушка Недобылова в очках в деревянной оправе, спущенных к самому кончику носа, — топила печь, подогревала кофе. Пахло свежими, ароматными буковыми поленьями. Старый Недобыл, столь же ранняя пташка, как и матушка, уже размел дорожку к переезду через речку и теперь ладил санки, чтоб отвезти обеих женщин на вокзал. Не имея лошадей, он впряг в сани корову.
— Я обязательно вернусь еще сегодня к вечеру, — сказала Валентина матушке, садясь после завтрака в сани.
«Еще сегодня вернется!» — подумала старушка, припоминая те времена, когда Леопольд Недобыл в такие же вот ранние часы отправлялся, бывало, в Прагу, а возвращался только через пять дней. Нет, все-таки есть и выгода во всех этих новых придумках, рассуждала про себя старая Недобылова, ничего не скажешь!
Тем не менее такое немыслимое, невероятное ускорение езды до столицы не ослабило уважения матушки к дальнему пути. И хотя Валентине предстояло вернуться всего через несколько часов, матушка долго стояла в воротах, махая им вслед, пока сани с обеими пассажирками, удаляющиеся медленно и степенно, совсем не скрылись в темноте.
Вернется к вечеру, думала матушка. И опять вечером будем мы толковать о том, как назвать внучонка, — может ведь родиться и девочка. Надо бы, чтобы родилась девочка, чтоб золотой чепец и монисто из монет сохранилось в семье. Чтоб было кому носить их после меня…
Поезд, сформированный в Пльзени, состоял всего из пяти пассажирских вагонов, четыре были заняты солдатами пльзеньского пехотного полка герцога Михала. И хотя расстояние от Пльзени до Рокицан невелико, поезд опоздал на десять минут — пути были занесены снегом.
— Не знаю, как это мы сегодня доберемся до Праги, — проговорил человек с черными крашеными и нафабренными усами, с виду — коммивояжер, сидевший у окна в купе единственного вагона, отведенного для штатских пассажиров; в этом купе с трудом нашли себе местечко Валентина с Лизой, и то лишь после того, как пассажиры несколько потеснились, увидев двух красивых и нарядно одетых дам. Коммивояжер с нафабренными усами сказал еще, что вчера, когда он утром ехал из Праги в Пльзень, поезд местами еле-еле полз, так много было снегу; а с тех пор еще вон сколько навалило!
— А это не наша забота, — отозвался голос из-под пальто, висевшего на вешалке: этот пассажир закрылся своим пальто и старался задремать. — Мы заплатили за проезд, пусть теперь думают, как нас доставить.
Поехали. Поднялась метель, она завывала так громко, что заглушила даже солдат, — счастливые оттого, что предстоял отпуск, они весело распевали маршевые песенки, причем в каждом вагоне — свою. Окно залепило снегом. Лиза тихонько плакала в платочек; даже рукава ее зимнего салопа, отороченные мехом, были мокры от слез. «Это не от раскаяния, это только от страха, — думала Валентина. — Ко всему прочему, она еще и постыдно труслива».
Проехали станцию Збирог. Поезд шел все медленнее и медленнее и наконец совсем остановился.
— Ну, кажется, завязли, — молвил многоопытный коммивояжер.
— А это не наша забота, — равнодушно проговорил пассажир из-под пальто.
Коммивояжер, спросив разрешения у Валентины, поднял окно и выглянул наружу. Ветер швырнул в купе рой снежных хлопьев.
— Засели? — спросил кого-то коммивояжер.
— Сейчас поедем, — ответили ему из темноты.
Коммивояжер выпрямился.
— Говорят, сейчас дальше поедем, — оповестил он прочих пассажиров, хотя все прекрасно слышали ответ железнодорожника. Но он еще добавил, почерпнув это сведение из собственного запаса дорожных опытов: — Не раньше чем кончат расчистку путей.
— Скорей бы, — сказал пассажир из-под пальто.
Но они все не трогались. Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, а поезд стоял. Слышно было, как за окном суетились, бегали, спорили чьи-то голоса. Солдаты перестали петь. Захлопали двери, пассажиры из других купе выходили посмотреть, что делается снаружи.
— Прошу потише, — поднял палец коммивояжер. — Кажется, я слышу шум поезда. Наверное, нам выслали помощь.
Действительно, начало казаться, что за воем метели доносится гул идущего поезда.
— Выгляну-ка я, — сказал коммивояжер и, встав, пошел к двери; проходя мимо Валентины, он слегка ей поклонился. — И сообщу милостивой пани, как дела.
— Это будет любезно с вашей стороны, — холодно ответила Валентина. Она всегда холодно разговаривала с незнакомыми.
В тот момент, когда он взялся за ручку двери, сзади, совсем близко, засвистел паровоз. А потом со страшным грохотом тупая тяжесть мчащегося железа наскочила на тупую тяжесть железа неподвижного, с яростным треском материя пронзила материю, и металл, дерево, человеческие тела — все под ужасающий рев смешались в едином огненном, дымящемся хаосе. Следовавший сзади пассажирского поезда товарный состав, машинист которого из-за метели не разглядел предупредительного сигнала, смял в лепешку два задних вагона с солдатами, свалил с насыпи и поставил стоймя третий вагон, разнес в щепы четвертый и несколькими товарными вагонами нырнул под пятый вагон, разломав его стенки и, подобно рассвирепевшему быку, подбросив его над собой. И сразу снова наступила тишина; одна метель завывала. Только через некоторое время откуда-то из невообразимой смеси перепутавшихся обломков раздался безумный человеческий вопль, к нему присоединился другой голос, третий — и вот уже к черному небу, все сыпавшему и сыпавшему снегом, поднялся многоголосый крик боли и ужаса.
Работы по расчистке длились долго. Тела Валентины и Лизы извлекли из-под обломков пятого вагона только к полудню.
Этим кончается первый раздел нашего долгого повествования; осталось добавить немногое. В то время как Ян Борн нес свою потерю очень спокойно, с покорным достоинством отбывая положенный траур, Мартин Недобыл был охвачен страшным, граничащим с помешательством, горем, из которого вышел сожженный, ожесточенный против людей и всего мира, постаревший, окончательно и навечно недоступный счастливому безумствованию такой любви, какую сумела пробудить в нем Валентина. Забыть о ней, забыть, избавиться от боли, которую он уже не мог больше переносить, — вот к чему он страстно стремился теперь; он надеялся теперь только на забвение, которое снова сделает для него мир местом, где как-то можно жить, а жизнь — кое-как переносимой. Поэтому Мартин быстро и последовательно, в удивительном противоречии со своей врожденной скупостью, убирал