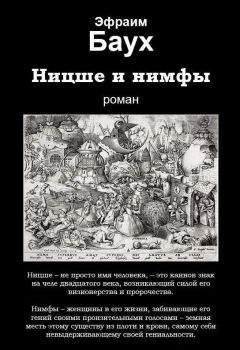Ознакомительная версия.
Но внезапно остановился и оглянулся. Никого за мной не было. Весь мир безнадежно отстал. Он едва мерцал редкими огоньками: сплошным кладбищем.
И внезапно со страхом и, в то же время с какой-то болезненной радостью, я ощутил, что опередил время, зашел слишком далеко, быть может, даже за пределы времени. Но это не было ощущением бессмертия, ибо все, сказанное мной на ветер, было обращено к тому оставшемуся, низменному миру, который я так презирал.
И только в этот миг моего словно бы нереального существования, понял я, насколько связан с оставленным мною миром, который я бросил на произвол судьбы, забросав его пророчествами его гибели и не признаваясь себе, что эта гибель будет на моей совести.
За окнами длилась беззвездная ночь. Сплошная тьма. И тут ясно пришла мне мысль о сне, давно пробивавшаяся наружу. Ко сну тянет утомление, а оно возникает от чрезмерного возбуждения.
Но, главное, в случае моей, — то ли несостоявшейся, то ли, все же, состоявшейся жизни, — это ощутимо приближающаяся смерть.
И она обольщает меня в образе своего младшего брата — сна.
270
Был ли предлагаемый мною путь эклектическим вариантом буддизма, который я перенял у Шопенгауэра, придав нирване несвойственную ей активность, приняв буддийское отсутствие Бога?
Была ли причина, предъявившая мне требование — будь Буддой?
Чем, все же, буддизм особенно привлекателен? Быть может, тем, что выражает настроение заката, прекрасного вечера, некую совершенную завершающую мягкость и сладость нирваны, благодарение всему, что пройдено и оставлено, как одежды Сакья Муни, превратившегося в Будду. Он с чувством освобождения и, в то же время с грустью видит свои одежды на все более удаляющемся противоположном берегу.
Будда отрешается от оставшейся там же духовной любви и всей ее сложности и противоречий, но еще витает над ним нимб духа прощальным светом и теплом солнечного заката.
Порой я пытался принять буддистскую отрешенность от всяческого действия, как панацею от всех бед моей жизни. И потому меня особенно поражает ширящийся интерес то ли к моей персоне, то ли к моей философии, то ли поддались моим чарам, то ли пытаются найти от меня спасение. Но я стою на том, что прошлое философии в значительной степени пошло, и от него следовало бы отрешиться по буддийскому рецепту, включая Шопенгауэра, приписавшего это рецепт нашей европейской цивилизации.
Если искать нечто общее с началом христианства и буддизмом, я бы назвал первозданную ячейку, клетку — маленькую еврейскую семью диаспоры, с ее теплом и нежностью, с ее взаимопомощью.
Это было неслыханно и чуждо Риму с его имперскими замашками.
Разве не потрясает готовность евреев вступиться друг за друга, их тайная — не на оскорбление, насмешку, преследование — гордость тем, что они — «избранный народ» — на величие и на страдания.
Разве не поражает, как и в буддизме, отсутствие в них всякой зависти к внешнему блеску и самоценной силе.
Вот это блаженное состояние, весь этот иудейский опыт и навык общинного самосохранения в условиях иноземной власти, и послужил апостолу Павлу приманкой языческим массам.
Из маленькой иудейской общины берет начало то, что мы называем любовью. Под покровом смирения и бедности в этой семье таится страстная душа, не имеющая ничего общего с душой греческой, индийской и, уж точно, германской.
Так что панегирик любви, сочиненный Павлом, вовсе не христианский, а иудейский, обжигающий вечным пламенем семитского происхождения.
Потеряв своих защитников — воинов, и обеспечивающих их питанием земледельцев, а затем и власть над своей землей, иудеи все свое выживание сосредоточили в священнике, выражающем весь их пессимизм негодования против господствующих сословий.
Другими словами, масса, а это всегда, главным образом, — чернь, восставала и возглавлялась священником.
Но христиане и в иудейском священнике видели претившие им привилегированность и благородство — и потому священника вычеркнули.
Крайнее выражение этого в наше время — французская революция: в ней господствует тот же христианский инстинкт — против церкви, знати, любых привилегий. И самый омерзительный нечеловеческий инструмент этого стремления революционеров к истинной справедливости — гильотина, предвещающая изобретение более продвинутых инструментов по массовому уничтожению людей, ненароком проронивших даже слово, которое не понравится этим ревнителям будущего лучезарного, построенному по образцу прусских маршевых рот, казарменного мира.
271
Все исполины человеческого развития отличались одной общей чертой — нарушением поставленного фанатиками морали предела так называемого ими «морального разложения». Стоит лишь вспомнить вердикты Савонаролы во Флоренции, Платона в Афинах, Лютера в Риме. А приговор Руссо Вольтеру или выступление немцев против Гёте.
Теперь же воздух Европы отравлен миазмами национализма. Все более распаляется дремучее самолюбие каждой нации — стадное чувство крупного рогатого скота. Меня выводит из себя этот пресловутый «новый рейх», основанный на равенстве прав и голосов.
Это быстро выродится в тиранию и диктатуру, которую несет социализм с его лишенными всякого основания грёзами об истине, добре, красоте и равных правах. Вооружать народ, это, по сути, вооружать чернь против ненавистных ей аристократов, принесших все лучшее, чем может гордиться цивилизованный мир. Но, по сути, это маска, под которой скрывается ненависть к монархам. Современный социализм стремится создать светскую разновидность иезуитства: никаких индивидов, все — винтики, инструменты, и — всеобщая слежка. Отдельный человек ничем не будет отличаться от презренного червя.
Предвижу алкоголизм, как попытку забвения и спасения от реальности. Только подумать, какое благодеяние — непьющий еврей среди немцев, этих лениво потягивающихся существ с льняными волосами и голубыми глазами, нуждающихся в отдыхе не от переутомления работой, а от отвратительной возбужденности алкоголем.
Наша же хваленая социология не знает иного инстинкта, кроме инстинкта стада, массы нулей, где каждый нуль имеет одинаковые права. Более того, быть нулем считается добродетелью.
Особенное отвращение я испытываю к лизоблюдам духа. Их выделяет полнейшая чистота совести. На вид они мрачны и даже пессимистичны. На самом же деле, они грязны, прожорливы, вкрадчивы, вороваты, и кажутся невинными, как микробы и грешники.
Живут они за счет умных людей, бросающих свой ум полными пригоршнями, хорошо зная, что богатым духом свойственно беззаботно и даже расточительно, пренебрегая мелочной осторожностью, раздавать все свое и не замечать, что все живет и питается за их счет.
Лизоблюды, как правило, по совместительству — незаменимые соглядатаи и заушатели. Социализм для них — рай земной, ибо является до конца продуманной тиранией ничтожнейших, поверхностных, завистливых людей, плывущих по течению и не делающих, более того, остерегающихся делать заключения.
Забавно созерцать противоречия между ядовитыми и мрачными физиономиями социалистов и теми, расточаемыми во все стороны надеждами на будущее счастье, которые они бесстыдно несут миру.
Но после гильотины, этой счастливой игрушки смерти Парижской коммуны, я предвижу кровавые триумфы, которые в будущем будет праздновать социализм. Его идею, подобную роковым яйцам, высидел опять же еврей немецкого происхождения, потерявший лучшее из еврейства и набравшийся худшего у немцев, Карл Маркс. Несмотря на скуку этих идей и нищету стиля их реклам и политических выступлений, они достаточно сильны, чтобы перейти к насильственным действиям в разных местах Европы. Парижская коммуна, которая находит себе защитников и даже апологетов в Германии, может оказаться лишь легким отравлением желудка по сравнению с массовым летальным исходом в будущем.
Учение социализма пытается, но не может скрыть свою волю к отрицанию жизни. Такое учение могли выдумать только неудачники, будь то отдельные индивиды или целые народы. Даже если это учение сумеет где-то достигнуть своей цели ценой огромного количества человеческих жертв, конец его предопределен и исчезновение его неизбежно.
Не перестает удивлять печальный повторяющийся феномен того, как руки чистых теоретиков время от времени обагряются кровью жертв, повинных лишь в том, что не желали из нормального тяготения к свободе и сохранения своего достоинства, подчиняться инстинктам этих теоретиков, роковым образом тяготеющих к открывшимся им и только для них истинам.
272
Из снов, составляющих иную сторону нашей жизни, возникла идея иного — параллельного, ирреального, потустороннего — мира. Все философские измышления, главным образом, Канта и Гегеля — единство противоположностей и «вещь в себе» — околдовали человечество именно потому, что не имеют под собой никаких реальных оснований.
Ознакомительная версия.