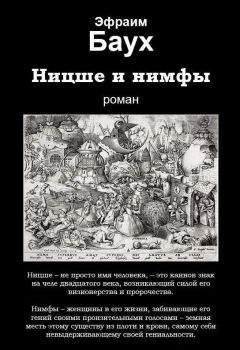Ознакомительная версия.
Кто бы мог подумать, что это чадо станет исчадием ада.
275
На нижнем этаже этой жуткой виллы довольно часто шумят пиры. Сестрица Элизабет обзавелась ливрейным лакеем, кухаркой, горничной, личным секретарем, садовником и почти каждый вечер правит бал Сатаной, вселившимся в ее женскую плоть.
Но сегодня там уж совсем распоясались. Безудержное веселье приносит мне отчаянную боль.
Вот, во что превращается золото за мои творения, которого мне так не хватало для издания моих книг.
Моему гению — пшик, моей сестрице — шик.
С утра, каждый день, кучер доставляет фрау Фёрстер-Ницше в город экипажем, который тянут любимые мои кони, понуро опустив головы.
Сбылась мечта Элизабет: жить в свое удовольствие на широкую ногу. Никто бы даже не заметил, если бы на этом головокружительном пиру появилась на стене огненная библейская надпись, нанесенная не мной — перстами руки человеческой — обо мне:
«Ты взвешен и найден легким».
Знак моей смерти.
Когда внизу вакханалия пира достигает апогея, принося мне невыносимое страдание, ввергая в отчаяние, из души моей вырывается пронзительный крик.
Внизу на какое-то время вакханалия стихает.
Значит, они ведают, что творят, хотя перед смертью будут клясться, что их бес попутал. Упоение смертью, которое несет музыка Вагнера, ударило им в головы сильнее вина, и вина их — перед миром, который, в конце концов, их одолеет и позорным клеймом останется на них до скончания веков.
Довелось мне с моей гениальностью родиться и жить в мерзкой среде пруссаков и юнкеров в полной беспомощности что-либо изменить.
Все то, важное, что я хотел принести на алтарь человечества, обернулось против меня. Не сойти с ума от этого было выше моих сил.
Под пьяные крики и пение внизу я засыпаю, просыпаюсь, и длится, возобновляясь, один сон: все Нимфы в моей жизни выстроились шеренгой, мимо которой меня несут, вероятнее всего, Ангелы — понятно куда. Лица Нимф не выражают ни жалости, ни милосердия, ни даже равнодушия. Это — каменные лица валькирий, рожденных для одной цели, которая в этот миг выступила во всей своей отвратительной реальности — сопровождать умирающих или уже мертвых мужчин на тот свет. И все мои прозрения пропадают в немыслимой пустоте ощущаемого мной истинным мира. С ним исчезаю и я сам.
И тут постепенно возобновляется вакханалия внизу.
В таком пульсирующем состоянии, нижняя точка которого разверзается вакханалией, а верхняя точка — полным исчезновением прозрения на самой грани раскрытия тайны вселенной, я живу, а, вернее, угасаю.
Единственно жаль — и я это знаю — что исчезну, быть может, за миг до раскрытия сокровенной тайны мира, так и не реализовав данную мне единственную возможность ее раскрыть.
И у мира останется чувство потери ключа к тайне, от которой зависит его судьба и наше в пребывание в нём, таком ненадежном, колеблющемся даже на слабом ветру.
О, как знакома эта неизбывная печаль, посещавшая меня в миг завершения очередной книги и расставания с ней.
Я называл это ощущение — меланхолией всего законченного.
Теперь же речь о расставании с жизнью.
А Элизабет внизу спит здоровым сном после очередной вакханалии. Она уже давно рассталась со мной.
276
Уходя в Небытие, я оставляю людям надежду: ход вещей в мире, по эту сторону, идет своим путем независимо от согласия или несогласия большинства. По этой причине кое-что удивительное на Земле все же пробилось и привилось.
Очень важно, чтобы после меня узнали, что мое неопубликованное, необработанное мной, наследие в полтора раза превышает опубликованное. Другими словами главная суть моей философии осталась в черновиках.
И взрыв, разрыв, расплыв. И начато
В строке, в мгновенье и в веках.
И все, что набело — то начерно,
И суть лежит в черновиках.
Врасплох, в распыл — круши, руши —
Весна летит во все ручьи.
Нетерпеливо, торопливо
Спешит, потоки обрывая,
Бросая островки, заливы,
Травою глины прорывая.
Пусть стены — те, что ей завещаны —
Так постепенны и степенны —
Ручьи швыряет, как затрещины,
В мхом плесневеющие стены,
Все мельтешит, бормочет, носится,
Кто нас метаньем не обманывал.
Но ослепительно обмакнуты,
Уже промыты солнцем маковки —
И вдруг пронзит, как чудо, до сердца,
И вот он — мир, открытый заново.
Я ухожу, оставляя миру, вместо завершенной главной моей Книги, эту — окольцованную строительными лесами непомерно огромную, неохватную, лишенную рамок и границ, конструкцию, то ли только воздвигаемую, то ли восстанавливаемую из руин.
Она подобна монстру, огнедышащему сплаву, лаве, озаренной вспышками гения, подспудного тления, не остывающего пепла.
Этот неугасающий вулкан будет будоражить сознание человечества, пытающегося спастись от настигающего его время от времени — вечным возвращением — этого вулкана.
Он будет возобновлять извержение каждый раз накануне катастрофических перемен в существовании человечества.
Самое неприятное, что сестрица будет вычеркивать то, что ей не подходит, исходя из ее антисемитских инстинктов, и восстанавливать то, что было мной вычеркнуто, более того, добавлять свои домыслы. И никакие мои запреты вообще не возымеют действия.
Я не просто предчувствую, я это вижу воочию, как ватаги будущих философов и тех, кто мнит себя философами, ринутся внутрь этого недостроенного здания, привлекающего провокационной вывеской названия, выбранного Элизабет, которое — по дошедшим до меня слухам — «Воля к власти».
И как туристы, грабители археологических раскопок, врывающиеся в римский Колизей, будут из моей конструкции выкрадывать образы, идеи, как отламывают кусочки от несущих стен, капителей, колонн, чтоб из них выстраивать чаще всего весьма неудачные собственные концепции.
Особенно, те, кто подобен очередному англичанину, упоминаемому моим любимым Стендалем. Наглый и напористый в силу своей ограниченности, он въедет верхом в Колизей, увидит каторжников, укрепляющих дряхлеющие стены, и разразится монологом: «Честное слово. Колизей — лучшее, что я видел в Риме. Это здание мне нравится. Оно будет великолепным, когда его закончат».
В моей незавершенной Книге будут копаться сотни филологов и текстологов, подобно патологоанатомам, поскольку вся моя отшумевшая жизнь и моя философия во всем ее охвате опубликованных и неопубликованных творений — это единое цельное тело.
Когда я взираю на эту мою незавершенную Книгу, пытаясь ее обозреть вплоть до ее краев, теряющихся в пространствах разума, приходит на ум призрак пражского Голема или — еще точнее — незавершенные скульптуры «Рабов» Микельанджелло во флорентийской Академии, перед которыми, остолбенев, я стоял часами, и строки стихов складывались в памяти сами собой:
Жизнь обернулась камня толщей,
В ней на смерть скован каждый сдвиг.
Я собственную суть на ощупь
Ловлю, теряю в этот миг.
То ль Микельанджело рука мне
Протянута из мрачных папств —
Ведь камень я, одет я камнем
Изгнаний гибельных и рабств.
И в данной мне судьбой отчизне
Я тварью стал, я весь дрожу —
И рвусь из омута я к жизни,
Но в омут смерти ухожу.
Моя Книга подобна этим «Рабам», лишь сумевшим наполовину выпростаться из каменной глыбы.
И как бы мир не старался, от меня невозможно будет избавиться.
Я буду неустанно тревожить покой человеческого рода, преследуя его множеством исследований и книг обо мне и моей философии, то угасающей, то усиливающейся, но никогда не исчезающей.
Меня будут возносить до неба, и низвергать в Преисподнюю, но, главное, забрасывать камнями, сочинять обо мне небылицы, замешанные на лжи с небольшими приправами правды.
Я, который предупреждал о грядущей катастрофе Европы, буду обвинен в том, что она произошла по моей вине.
Меня будут закапывать и затем извлекать из могилы множество раз в назидание будущим поколениям, отравляя ядом приписываемых мне прозрений и пророчеств их ясное, еще ничем не отравленное бытие.
Но вновь и вновь я буду разрушать всяческую согласованность и категоричность заново возникающих философских концепций, при этом, как родоначальник всех будущих философских течений, должен буду себя вести подобающим этому титулу образом.
Каждое новое уточненное собрание моих сочинений будет подобно новому извержению, или, точнее, разорвавшейся бомбе из моего артиллерийского арсенала.
Ознакомительная версия.