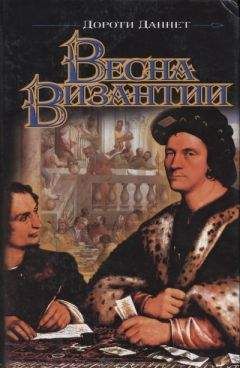Если те же мысли мелькали у Асторре, то он был слишком занят, чтобы тревожиться понапрасну. К тому же наемник слишком привык к тяготам войны и ее потерям. Больше священнику не с кем было разделить свои опасения, и потому он держал их при себе. В городе все, включая императора, полагали, что Николас вновь слег с лихорадкой, а Тоби ― ухаживает за ним.
И вот, наконец, когда в пятницу поздно вечером они оба вернулись домой, изможденные, грязные и молчаливые, капеллан окончательно утратил самообладание. Пришлось Лоппе встречать гостей, ухаживать за ними и напоминать, что разговоры могут и подождать. Однако, время было на исходе, и все это прекрасно сознавали. Первым заговорил Николас: он рассказал о том, что скоро город будет сдан; а Тоби отвел Годскалка в сторону и поведал ему об убийстве Дориа. Священник молча выслушал его.
Затем настало время без промедления покидать дом. Даже со стороны Асторре они не встретили никакого сопротивления. Он сумрачно выслушал историю о слабости и предательстве, а затем, поднявшись, переломил об колено командирский жезл, который даровал ему император. Обломки с грохотом посыпались на пол.
― Я не служу туркам и не служу трусам! ― воскликнул он.
― Сражения не будет, ― заверил его Николас. ― Неприятель займет столицу, и тогда и тебя, и твоих людей ждет гибель. Если бы ты стал спорить со мной, я готов был отрезать тебе ногу…
Асторре встрепенулся.
― Но ведь после Эрзерума речь шла совсем не об этом. У нас тогда был выбор.
― У тебя не было, ― возразил бывший подмастерье. ― Я лишь сделал вид, чтобы ты мне поверил.
Затем каждый занялся своими делами, не видя впереди ничего, кроме самых насущных текущих задач. Оставалась последняя формальность, и не тратя времени понапрасну, они нанесли последний визит во дворец. Как и в самый первый день, Николас вел их, но теперь с ним рядом шел Годскалк, а Асторре со своими людьми сопровождал их обоих, яростно чеканя шаг и каждым жестом выражая свое негодование.
Во дворце они не встретили ни Амируцеса, ни мальчиков, ни женщин. На аудиенции присутствовали лишь мужчины, тщетно пытавшиеся скрыть свой страх за натянутыми улыбками. Мерзкий запах страха исходил отовсюду, перекрывая аромат плодов, мускуса и благовоний. Страх появлялся во всем: в упакованных сундуках, в торопливых движениях, в перешептываниях.
Годскалк видел, что это предвещает конец всякого порядка, сопутствующий сдаче: дурно приготовленная еда из опустевших кухонь, мятые одежды в руках усталых слуг, испуганные дети, которыми некому заняться, смущенные молитвы церковников, метания сановников между старыми и новыми хозяевами и мелкие пропажи: кубков, блюд, икон, поделок из слоновой кости. А снаружи ― давление всеобщей злобы, страха, отчаяния от позабытого своими правителями народа Трапезунда, запертого в стенах, которые они собирались защищать с такой радостью и отвагой.
Но сейчас нужно было думать лишь о насущных задачах. Время споров давно прошло.
Император принял их в державных одеждах и выглядел в точности так же величественно, как и всегда. Лишь теперь, в полном свете его истинных деяний, становилось ясно, насколько он неестественен и бесполезен, ― в точности, как эти фрески вокруг него. Заметив, что ни Николас, ни Годскалк не собираются падать перед ним ниц, он нахмурился, но вслух никак не высказал недовольства. Он размеренно произнес по-гречески необходимые слова: дабы спасти жизни людей, он решил пожертвовать собственным благополучием и открыть ворота. Султан Мехмет, как просвещенный человек, обещал мудрое правление и свободу вероисповедания, какую он уже даровал грекам в Константинополе. Однако, разумеется, больше не было никакой нужды держать в городе вооруженный отряд консула. Он благодарил их за услуги и с почестями освобождал от завершения контракта. Особым указом они были избавлены от всех дальнейших обязательств.
Послание было передано Николасу, а внимание императора уже привлекло что-то другое. Наверняка такое равнодушие не было наигранным.
Чужеземные торговцы ничего не значили для него, однако Николас спросил все же, остались ли в городе семьи католиков, и добился от императора разрешения всем им покинуть город, хотя было общеизвестно, что султан не применяет никаких мер по отношению к торговцам, если те не оказывают вооруженного сопротивления.
О смерти генуэзского консула император также был наслышан. Он дозволил шкиперу Кракбену увезти на своем корабле всех генуэзцев, которые пожелают на время покинуть Трапезунд. Басилевс не сомневался, что это должно удовлетворить мессера Никколо. Он позволил ему и отцу Годскалку при прощании лишь поклониться, не целуя ему ноги, и каждому пожелал преподнести небольшой личный дар, ― от чего те вежливо отказались.
― Надо было взять, ― заметил Тоби, когда они рассказали ему об этом. ― Мог бы затолкать его какому-нибудь турку в глотку.
Это был единственный комментарий к происшедшему. На большее просто не хватило времени. Заполучив все снасти парусника, они приказали отвезти их в дом генуэзцев, где их ожидал бывший шкипер Дориа Кракбен, который охотно согласился объединить силы и вместе выйти в море. Он также знал о гибели своего нанимателя, но не слишком оплакивал его. Похоже, они с Асторре были одного поля ягоды…
Именно он увидел основную сложность в их плане. Парусник стоял на якоре в море, а пассажиры и груз находились в городе. Как предлагает флорентийский консул объединить одно с другим, если между ними ― берег, занятый турками?
― А мы и сами станем турками, ― заявил ему Николас. ― Все просто. Нужны только большие черные усы и репутация просвещенного, справедливого человека.
Кракбен заухмылялся, но тут же улыбка сползла с его лица.
― Это не шутка, ― подтвердил Николас. ― Мы переоденемся турками и сделаем вид, что нас послал султан. У нас приказ оснастить генуэзский парусник и отплыть на нем в Галлиполи.
― Это не сработает, ― заявил Кракбен.
― Почему же? ― возразил Николас. ― Ты взгляни за стену. Они там все перепились, бьют в барабаны, празднуют победу. Им сообщили о сдаче Трапезунда.
― Все равно не сработает, ― повторил шкипер. ― Как насчет турецких нарядов?
― Ну, это будет проще всего…
* * *
В Керасусе, в сотне миль к западу, оставшиеся члены компании Шаретти с тем же нетерпением и тревогой считали дни. Их приказ был ясен: вне зависимости от того, появится ли Николас из Трапезунда, восемнадцатого августа они должны отплыть домой.
Для Катерины де Шаретти нельи Дориа время тянулось медленно, как никогда. Она вовсе не собиралась тратить шесть недель своей замужней жизни в Керасусе, когда соглашалась принять участие в игре в мяч. Начать с того, что и сама игра была совершенно позорной. Вместо того, чтобы состязаться друг с другом за ее внимание, Пагано с Николасом, словно сговорившись, пытались выставить ее дурочкой. Затем последовало еще более унизительное путешествие на верблюде. Так она и заявила поверенному матери, едва лишь прибыла в Керасус с дрожащей собачкой на руках:
― Верблюда необходимо срочно продать.
Дальше лучше не стало. Дориа по браку, Шаретти по рождению, она ожидала, что будет жить на холме, во дворце губернатора, вместе с мастером Юлиусом и Джоном Легрантом. Вместо этого ее заперли на каком-то чердаке вместе с толпой перепуганных женщин и детишек, покуда мимо них проплывал весь турецкий флот. От женщин, которых Катерина от всей души презирала, она узнала, к своему вящему изумлению, что на Керасус они прибыли на борту «Чиаретти», и что эта галера находится здесь, на берегу, спрятанная на каком-то острове.
Вскоре вслед за этим Катерина выяснила, что в крепости Керасуса находится весь груз «Чиаретти», доставленный мастером Юлиусом из Эрзерума. Венецианские товары также оказались тут. И еще мелочи, привезенные из Трапезунда, включая книги, красители и драгоценности, ― то есть почти все то, что она уговаривала купить своего мужа. Катерина даже узнала жемчужные украшения: Николас забрал себе все. Все, что должно было принадлежать Пагано… Да еще он сумел увезти из Трапезунда жен и детей венецианцев.
Все было исполнено превосходно, и Катерина теперь не могла себе представить, как Пагано удастся превзойти Николаса. И хотя ночами она безмерно тосковала о нем, однако то и дело напоминала себе, каким беспомощным он оказался, и как Николас его перехитрил.
Все же день за днем Катерина ждала его появления: чтобы он порубил мечом этих насмешников-венецианцев, чтобы весь их товар загрузил в свой парусник и сказал: «Пойдем, любимая. Я ― величайший среди торговцев Европы, а ты ― моя госпожа». Но тут же здравый смысл брал верх, и Катерина принимались скрежетать зубами, до боли впиваясь ногтями в ладони. Если бы он сумел исполнить хотя бы четверть этого… даже меньше четверти… она добилась бы остального. Чего угодно. Лишь бы друзья матери с благоговением смотрели ей вслед и шептались: «Наша малышка Катерина! Какой великолепный брак! Какой муж! Какое богатство!»