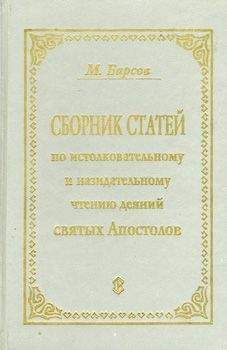Наступила уже послеобеденная пора, и все в лагере спали, когда Петр проснулся. Он вышел из палатки. У ее входа, растянувшись во весь богатырский рост, храпел Кряж.
Петру стало жалко его будить, и он пошел к своему полку, чтобы взять оттуда коня и ехать в Витебск, к своей Анеле. Сердце его радостно билось. Отъезд отца развязывал его, освобождая от постоянной лжи, потому что до конца похода он не хотел ничего говорить ему про свою любовь.
И он шел, весело напевая, к коновязям своего полка.
Кругом все спало. Воины не укрывались в палатках и лежали где попало и как попало: между колесами телег, на самом припеке, почти под лошадиными копытами, ничком, навзничь, боком. Оставшиеся на часах тоже дремали, опершись на свои копья или алебарды.
Крепок среди русских был обычай послеобеденного сна, и Петр невольно усмехнулся: вот приди теперь ляхи — и вяжи живьем, потому что у русского этот сон крепче ночного.
Он подошел к коновязям. Часовой поспешно подбежал к нему.
— Снаряди мне коня, — приказал ему Петр, и тот, бросив копье, торопливо начал обряжать коня для князя.
В это время из палатки вышел Тугаев.
Петр дружески ему улыбнулся.
— Чего не спишь?
— Жара разморила, — ответил Тугаев и закричал во весь голос: — Илья, браги!
Илья, молодой парень, длинный и тонкий, вскочил как ужаленный и бросился к обозу. Тугаев подошел к Петру.
— Жара, — повторил он, — а потом думы. На Москве-то у меня молодая жена оставлена.
Голос его дрогнул, и он отвернулся. Петр дружески положил ему на плечо руку.
— Э, Павел Ильич, нешто подле нее нет людей? Увезут, как и всех прочих. Нешто оставят в Москве. Смотри, Никитин баял, никого, почитай, не осталось. Так, людишки только, а то купцы даже поехали!
Тугаев вздохнул и кивнул головою.
— На то только и надеюсь! — и потом спросил: — А ты к ней?
Петр улыбнулся.
— К ней! Пока спят, а там и назад. До тебя просьба: коли князь всполошится, ты распорядись с полком, а я в одночасье и назад!…
— Ладно!
Часовой подвел коня, и Петр лихо вскочил на него.
— Прощай пока что!
— Прощай! — И Тугаев долго смотрел вслед Петру, пока по дороге еще крутилась пыль от конского бега.
— Добрый парень! — подумал он про князя с нежностью.
Они не только сдружились между собою, но успели и побрататься. Молодому Петру необходим был друг, которому он мог бы поведать про свое счастье, да и Тугаеву, который был всего на два года старше Петра, дорога была его дружба.
Петр летел вихрем по пыльной дороге, думая об Анеле, о свидании с нею и о приготовлениях к переезду. Надо с Мордке этим договориться насчет возка и доставки девушки в Вильну. Оставить ее в Витебске он боялся, потому что мало ли что может случиться, а пусть он ее провезет в Вильну, которую все равно займут русские, и там Мордке найдет Петра, проведет его к Анеле и заработает хорошие деньги.
Сердце его трепетало и билось. Вот уже разрушенные ворота, узкие улицы, загроможденные обломками, костел, маленький переулок, поворот и…
Петр осадил коня и растерянно оглянулся.
Что это? Где же дом еврея?
Кровь похолодела в его жилах. Он спрыгнул с коня и бросился вперед.
Вот он! Но вместо него одни обгорелые развалины.
— Мордке! Мордке! — закричал исступленно Петр, но кругом было безмолвно, и только черные балки молчаливо свидетельствовали о недавнем разгроме.
Петр два раза обежал развалины, бессмысленно повторяя:
— Анеля! Мордке!
Потом он взял в повод коня и поспешно пошел по улице, высматривая жилой дом. В конце улицы он увидел двух еврейских мальчишек и бросился к ним, как коршун.
— Где отец? Где мать? — спросил он их, ухватив одного за волосы.
Дети заорали благим матом, и на их крик словно из земли выросла маленькая, худенькая еврейка и ястребом кинулась на Петра. Он схватил ее.
— Где муж твой!
— Муж? Лейзер?
— Лейзер, Мордке, все равно! Давай мне его! живо!
В голосе и жесте Петра было столько повелительного, что еврейка беспрекословно повернулась и повела Петра, крикнув плачущим детям:
— Ша, киндер!
Следом за еврейкой Петр с трудом пролез в узкий пролом каменной стены, прошел двор, заросший бурьяном, и вошел в помещение, служившее, вероятно, банею при панском доме.
При входе его толстый маленький еврей, рыжий как медная монета, быстро вскочил с лавки и испуганно воззрился на Петра. Петр с трудом перевел дыхание. Как ни был он сильно взволнован, но его поразил тяжелый запах в комнате.
Еврей тем временем испуганно отвешивал поклоны, а жена его что-то быстро говорила ему на своем жаргоне.
Наконец Петр перевел дыханье.
— Мордке знал? — прямо спросил он.
— Мордке? — протянул еврей, но Петр нетерпеливо махнул рукою, вооруженной плетью, и еврей тотчас кивнул головой.
— А то як же, — ответил он, — знал!
— Где он?
— А я ж откуда знаю, — пожал еврей плечами.
— Не мучь ты меня, жид! — закричал Петр. — Ты не мог не видеть, как горело его мурье. Или скажи все и я заплачу тебе, или…— и он грозно поднял руку.
Жид испуганно отшатнулся.
— Ой, вей! Я все буду говорить пану! Я бедный еврей! Я бедный еврей! Что я могу! Одни говорят: скажешь — убьем, пан говорит: не скажешь — убью! О, я бедный! Они давали десять карбованцев, пан даст двадцать.
— Дам! говори!
Петр кинул ему две золотые монеты, и Лейзер торопливо, размахивая руками, начал рассказывать.
К Хаиму приехал польский гусар и у него жил. Потом Хаим говорил с Мордке, потом они достали коней, возок и вот вчера в ночь уехали, а хату зажгли. Панна Анеля кричала и плакала. Он жалел панну, потому что пана подкомория все знали, но у польского гусара были пистолеты и сабля…
Петр даже пошатнулся от неожиданного удара.
Увезли! Она просила уберечь ее, и он ей не поверил! Теперь где она?…
— Куда они поехали?
— Дали Бух, не вем! Як Бога кохам не вем! — заклялся жид, мотая головою.
— В Вильну?
— Може, и в Вильну…
— По какой дороге?
— Я ж так испугался, что и не глядел, уехали, и Бог с ними!…
Петр тихо пошел по двору, вышел на улицу и сел на коня. Лицо его было бледно как бумага, глаза потускнели, и он не видел и не сознавал дороги.
— Петр Михайлович, что с тобою? — испуганно воскликнул Тугаев, встретив его.
Петр махнул рукою и, сойдя с коня, бессильно опустился на обрубок дерева.
— Да скажи, — приставал Тугаев, — може, я помогу в чем, а?
Князь молчал. Потом вдруг встал и 'сжал кулаки. Мертвенная бледность сменилась гневным румянцем. Глаза сверкали.
— Слушай, — сказал он Тугаеву, — у меня какой-то поляк украл Анелю. Украл и увез! Украл душу мою! Слушай, я клянусь теперь, — и он поднял руку, — не знать женщины, кроме моей Анели. Клянусь искать ее всюду, а дотоль ни одного поляка не щадить! И будь он пеший, без меча или пистоля, будь он наг, бос и болен — я все же убью его! Клянусь в этом! — И он широко перекрестился.
Тугаев смотрел на него пораженный, безмолвный.
— Если тебе нужен пособник, я твой, — сказал он наконец.
Петр обнял его и вдруг разрыдался. Для молодого сердца горе было слишком тяжело и нежданно.
— Павел, как мне горько! Господи, как мне горько! — со стоном произнес он.
Чума окончилась, то есть ее страшное опустошительное действие окончилось настолько, что жители могли воротиться в Москву во главе с царской семьею и Никоном, патриархом, но по Руси она еще губила людей, медленно смиряясь, как разъярившийся зверь. Повсюду были выставлены заставы, устроены карантины, и пришедшие из чумных местностей наказывались смертью.
Успокоенный царь снова вернулся на театр военных действий в Смоленск (где была его главная квартира) и двинул войска свои далее, но и без него князь Трубецкой и Шереметев одерживали победы над ляхами.
Триумфальным шествием был весь поход русских на Польшу; неприятель разбегался в страхе, города падали и сжигались. Шереметев взял город Велиж, а царь взял Борисов, перешел Березину и стал под Вильной. Гетманы Радзивилл и Гаевский были разбиты наголову и бежали. Вскоре были взяты Ковно и Гродно, наконец пала Вильна, и 30 июля 1655 года, через два года после начала похода, царь торжественно въехал в столицу всей Литвы. Торжественность въезда превосходила все дотоле виденное, и царь поразил своим великолепием простодушных литовцев.
В город друг за другом въехало шестьдесят карет, причем по одной карете в двух десятках были разительно роскошны. Обитые алым, синим и зеленым сукном, запряженные каждая двенадцатью красивыми лошадьми, с кучерами в высоких черных шапках и голубых кафтанах, они заставляли думать, что в них сидит сам царь. Но царь ехал позади этих шестидесяти карет, в драгоценной карете французской работы, обитой коричневым бархатом, с пятью главами наверху, с позолоченными орлами на главах. Кучера были также в высоких шапках, но в коричневых кафтанах.