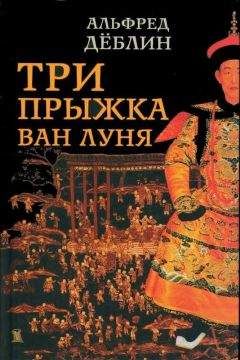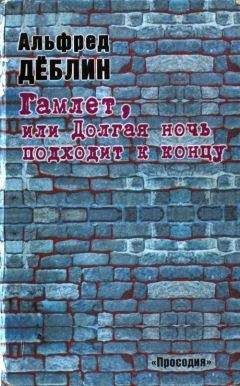К числу наихудших относились горячие головы, люди мстительные и не знающие удержу в своих чувствах. Такие — как правило, еще в юности — из-за честолюбия, или влюбленности, или жажды мести совершали какой-то роковой шаг, порывая связь с семьей, родом, родиной, в пределах которых только и имели смысл их порывы и преступления; потом, озлобившись, бродили где придется, проклинали самих себя, без конца пережевывали жвачку своих страданий, Таким ничто уже не могло помочь; и они были способны на все; остальные предпочитали не иметь с ними дела. Они не отличались общительностью, но вовремя оказывались повсюду, где что-то происходило или планировалось, неизменно искали пищу для своей злобы, и товарищи смотрели на них с неприязнью.
И еще было много таких, кто просто выжидал, кто присоединился к другим, только чтобы найти себе пристанище хоть в какой-нибудь из восемнадцати провинций[80]. Солдаты, отпущенные за ненадобностью, еще носившие свои драные синие куртки и надеявшиеся, что их вновь призовут на службу. Калеки, которые раньше жили в маленьких местечках, где близкие не могли их прокормить, а теперь пытались чем-нибудь поживиться на дорогах к святым местам. Трудолюбивые серьезные люди, потерявшие семьи во время наводнения; и те, для кого неурожай стал привычным, ежегодно возвращающимся гостем; и те, что сперва лишь на время, с чувством стыда отправлялись в далекие горы, чтобы просить милостыню, но дела их шли все хуже и хуже, и они уже не видели для себя иного выхода.
Попадались и явные исключения, наподобие Ван Луня: беспокойные души, которые не задерживались нигде, которые в этих местах, как и повсюду, внезапно выныривали среди себе подобных, а потом так же внезапно исчезали: в бескрайней империи вздымается много людских волн.
Постоянное жесткое ядро всей шатавшейся в тех горах братии состояло из четырех или пяти бандитов, которые уже много лет занимались разбоем на перевалах и высокогорных тропах. Это были внешне дружелюбные, а на самом деле лицемерные типы, которые знали множество анекдотов, доброжелательно выслушивали других и грубо подшучивали над самыми молодыми. Один из них из-за своей тучности казался почтенным чиновником; для полного сходства не хватало лишь шарика на шапке. Он придавал большое значение внешней респектабельности и с комической дотошностью соблюдал правила этикета, но, если его что-то раздражало, мог ответить вульгарной бранью. Он был ипохондриком, крайне болезненно воспринимал любые недомогания и большую часть денег, добытых кражами и разбоем, оставлял у знахарок, которые готовили для него лечебные снадобья. Он обладал множеством своеобразных качеств: скажем, искусно мастерил из дерева табакерки с цветочными узорами, расспрашивал каждого нового человека, какие шкатулочки сейчас в моде у горожан, и с устрашающим терпением — если хотел этого или считал для себя полезным — пытался скопировать заинтересовавший его образец. Знакомым торговкам, которые обращались с ним как с благородным господином, он жаловался на свою бедность, на то, что, если хочет приобрести на рынке хотя бы самую мелочь, вынужден продавать последнее, «вплоть до собственной шкуры». Отправляясь надело, тот же человек превращался в очень жестокого, уверенного в себе грабителя с мускулами из стали, с неистощимым терпением и хладнокровием. К людям, особенно молодым, которые случайно заставали его на месте преступления и на которых поэтому ему приходилось нападать, он испытывал отвращение, если они не пытались обороняться или если, уже побежденные, молили о пощаде. Двух подручных купца, которые закричали, когда он ночью проник в их комнату, он сперва оглушил, ударив какой-то железякой, а потом — поскольку они, сильные мужчины, несмотря на его запрет продолжали хныкать — задушил одного за другим первым попавшимся шнуром (после чего, обезумев от ярости, вернулся в свое горное логово, так и не взяв ничего ценного). С той поры к нему пристала кличка Шелковый Шнур.
Другой бандит, родом из Кантона, высокий и сухопарый, носил очки в роговой оправе. Этот не любил ни убивать, ни вламываться в чужие дома; он, будучи человеком начитанным, сочинял стихи, трактаты об общественных нравах, а также на всякие иные темы: о мире животных, геологии, астрологии. Его характер для большинства бродяг оставался загадкой. Он не искал их общества; они же приходили в его пещеру, расспрашивали о разных вещах, особенно о болезнях и о благоприятных днях, или просили совета. Он получил неплохое образование, копировал произведения любимых поэтов, чисто писал иероглифы. В этом высоком спокойном человеке через каждые несколько месяцев происходила разительная перемена. Те, кто часто приходил к нему, подмечали соответствующие признаки заранее: он уже не слушал их так терпеливо, как обычно; в его скромном жилище, как правило чисто прибранном, вдруг воцарялся кавардак. Сам он объяснял, когда к нему приставали с расспросами, что сейчас очень занят собственными делами — именно в эти дни; и просил, чтобы на него не обижались: позже он непременно подумает об их проблемах и предоставит им все нужные сведения. Потом наступал период, когда бандиты в течение нескольких дней хохотали не переставая, буквально до упаду. Потому что почтенный ученый муж, перепачканный с ног до головы и одетый в какие-то отрепья, карабкался по горным тропам, навещал в таком виде своих знакомых, извергал на них потоки высокопарных невнятиц, пересыпанных гнуснейшими непристойностями (которые в другое время никогда не решился бы повторить), — и сам при этом смеялся так, что лицо его покрывалось тысячью мелких морщинок. В период таких блужданий, когда он не позволял себе никакого отдыха и спал не больше двух часов в сутки, но при этом нисколько не уставал, сухопарый безумец время от времени прятался при лунном свете за какой-нибудь скалой у поворота дороги, потом с воплями атаковал целые караваны — и нередко обращал их конвойных в бегство; или с радостными возгласами сталкивал в пропасть одинокого паломника, после того, как долго крался за ним, корча злобные гримасы; или скотски куражился в больших торговых селениях над женщинами и детьми. Через пару дней после подобного приключения он уже вновь сидел в своей пещере и показывал гостям полученные ссадины и шишки. Поначалу он хвастался такими ранениями как священными отметинами, но потом быстро возвращался в привычную колею, возобновлял ученые занятия, и никто — если не хотел подвергнуть себя ужасной опасности — не смел напомнить ему об отошедших в прошлое сумбурных днях. Влияние двух этих одиночек на прочих бандитов было незначительным; друг с другом они почти не общались; остальные же считали их опасными чудаками, которых невозможно привлечь ни к какому общему делу.
В жарко натопленных комнатах захваченного селения бродяги часто заводили разговор о Ван Луне: он казался им человеком, окутанным тайной. Его долгие пребывания у «колдуна» Ма Ноу пугали их; все они полагали, что за этими визитами что-то кроется. Ван определенно был одним из преследуемых, из тех, кто нигде не находит для себя покоя. Горбун, живший с ним в одном доме, однажды за общей трапезой высказал такое предположение: «С этим Ваном в Шаньдуне что-то произошло, и теперь он хочет научиться заклинать духов, чтобы кому-то отмстить. Ведь есть же в горах Ляньфушань человек, который поймал и запечатал в кувшинах демонов всей провинции…» Другой поддержал эту мысль: «Ма Ноу уже давно поселился здесь наверху; он знает всех горных духов. Чего еще может хотеть от него Ван?» Горбун: «Как-то раз я увидел Вана у мельничной запруды; он сидел на земле и хлопал в ладоши, держа их на уровне глаз. Зачем? Потому, наверное, что заметил демонов и пытался их раздавить…» Еще один старый разбойник, доверительно наклонившись к нему, ухмыльнулся: «Ван Лунь — ученый. И повсюду что-то таскает с собой. Чему же тут удивляться, если такой человек умеет колдовать? Кто умеет одно, умеет и другое».
Ван под влиянием бесед с Ма Ноу становился все более задумчивым и серьезным. Он понемногу успокаивался. Преграды и завесы, которыми отгораживалось от мира что-то темное, таившееся в нем, пали; он «выравнивал», преодолевал себя, но все это происходило в сокровенных глубинах. Его внутренний излом обнаруживался лишь иногда, случайно: например, в шутках и розыгрышах, которые обескураживали его товарищей; или в многочасовых состояниях полнейшей безучастности; или в мимолетных вспышках злобы и упрямства. Старые бродяги воспринимали его выходки как нечто сакральное; полагали, что такого рода странности подобны судорогам юродивого.
Однажды вечером, уже к концу их пребывания в Бадалине, Ван, продрогший на морозе, вернулся в горницу; он смеялся, мычал, подпрыгивал, чтобы скорее согреться. На сугробе свежего, совсем свежего, только что выпавшего белого снега — пусть они напрягутся и вообразят себе это! — он нашел большой кожаный кошель с императорской военной печатью; и когда схватил его, ощутил в руке звонкие золотые монеты. Ван бросил черный кошель на стол. Десять бритых голов с косичками на затылках сдвинулись, поднялся радостно-испуганный ропот. Один из бродяг тут же запустил руку в мешочек — и отдернул, по локоть запачкавшись угольной пылью; другой действовал осторожнее, но и с ним приключилось то же самое. Как и еще с двумя. Бандиты смущенно переглядывались через стол, на котором горел масляный светильник, натужно молчали, подмигивали друг другу, кивая на верзилу Вана, который невозмутимо стоял у теплой лежанки, опять переглядывались, отряхивали с рук уголь. Толстяк, выделявшийся среди других светлым оттенком кожи, поднес кошель к уху, встряхнул, прислушался. Те четверо, что пытались нащупать монеты, тоже притиснулись поближе, вытягивая шеи. Толстяк бросил кошель на стол, отодвинулся, смущенно пробормотал, не глядя на Вана: «Ему, наверно, виднее… Вану то есть». Бедняга настолько растерялся, что не сообразил поступить так, как сделал после небольшой паузы Горбун: тот; не дотрагиваясь до кошелька, попросил Вана показать им императорскую печать и объяснить, принадлежала ли она Цянь-луну или кому-то из прежних государей. Если же Ван не хочет показывать им печать, пусть хотя бы на словах опишет ее (а заодно и золотые монеты). Они, конечно, испуганы, очень испуганы, и сам он тоже, а все-таки они бы охотно послушали и потом пересказали другим.