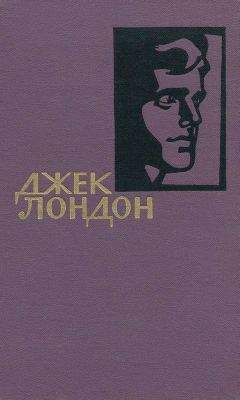– Так его, краснорылого нехристя! – зашумел народ.
– Вставай, еще раз заеду! – на радость толпе выкрикнул над побитым Степан.
Ярыжные кинулись на казака, но он отступил на шаг и подсучил рукава для драки. Один из ярыжных заколотил в тулумбас [Тулумбас – род бубна или небольшой барабан, употреблялся ярыжными вместо полицейского свистка], призывая на помощь.
– Уходи, казачок, уходи! В толпе тебя не найдут, мы прикроем! – подсказали Степану.
Через толпу уже проталкивались стрельцы. Народ «от греха» потек в разные стороны. Стрельцы и ярыжные обступили Степана. Недолгой была борьба: вывернув казаку за спину руки и толкая в шею, его повели в приказ.
Царская «привилея», данная донским казакам, не позволяла расправиться со Степаном, как с любым московитом: по закону, где было хоть два казака, они должны были сами судить третьего.
Рассмотрев подорожную грамоту Стеньки, его послали из Земского приказа с подьячим и со стрельцом в Посольский приказ, который ведал донскими делами.
В Посольском их встретил старик сторож.
– На кой леший вы его притащили, – ворчливо сказал он подьячему. – Ведаешь сам, до какого часа в приказах сидят. Веди назад, в Земский!
– Как хочешь, а нам до него дела нет, – возразил молодой подьячий. – Земский приказ не смеет держать донских казаков.
– Таскаться с ним еще по Москве! Мы иную заботу сыщем, – вмешался стрелец.
– И я не пойду назад! – заявил Степан. – Затаскаете тут по приказам туды-сюды! Что я – тать?!
– Идем, стрелец! – крикнул подьячий, уже повернувшись к дверям.
– Постойте, робята! – взмолился сторож. – Да как я с таким буянцем один?! Хоть его запереть пособите!
Но Стенька уже узнал о своих правах по пути в Посольский приказ от провожатого, молодого подьячего, который проникся к нему дружелюбием.
– Ты что, старый черт, царский указ нарушать?! – накинулся Стенька на старика. – В тюрьму меня, казака донского?!
– Ты не шуми, не шуми! – шепотом остановил его сторож. – Не то вот Алмаз Иваныч услышит. Ведаешь, что он нам с тобой сотворит?..
Однако Стенька поднял нарочно такой крик, что по пустым покоям, пропахшим пылью и плесенью, гулко пронесся отзвук. Со скрипом на шум отворилась дверь из какой-то комнаты, и показался рослый, не старый еще человек с холеной русой бородой, без кафтана, лишь в белой льняной рубахе с расстегнутым от жары воротом.
– Что стряслось? – строго спросил он.
– Из Земского привели казака донского, Алмаз Иваныч, – с низким поклоном сказал сторож. – Не смел я тебя тревожить...
– Кто привел, идите сюды, ко мне в горницу.
Наскоро расспросив подьячего о вине казака, Алмаз Иваныч отпустил его и остался вдвоем со Стенькой.
– Стало, ты мыслишь, что за правду вступился? – насмешливо спросил он, глядя в лицо Степана серыми, пристальными, усталыми от работы глазами.
– А что же он уговора не держит?! – запальчиво вскинулся Стенька. – Перво рожу побил мужику, а потом – все равно в приказ! Да еще наклепал про свою однорядку!
– А на что ж у царя на Москве приказы да судьи? Я мыслю, и без тебя разберут – как те звать-то? Степанка? – и без тебя, Степан, разберут! В Мунгальской орде и то судьи есть и свои законы. А ты не в орде – на Москве!
Дружелюбный голос думного, дьяка, прямой взгляд и его спокойная строгость внушили Стеньке доверие. Дьяк отложил пачку исписанных длинных «столбцов», придвинул к себе чистый листок бумаги и принялся молча что-то писать, глядя в Стенькину подорожную грамоту.
– Разин сын... Не того полковника Рази, какой на Украину к Богдану охотников собирал? Тимофея, что ли? – спросил дьяк.
– Его, – подтвердил Стенька, гордый тем, что в Москве, в Посольском приказе, тоже знают отца.
Думный дьяк качнул головой и вздохнул.
– Ты, знать-то, по батьке! И он во всем свете хотел правду устроить своими руками... Ан, может, для той великой правды ныне сам государь трудится! Может, и я здесь на ту же великую правду труды свои полагаю, – сказал дьяк, прихлопнув ладонью какую-то стопку бумаг, словно в них была сложена Тимофеева правда.
– Ведь Запорожье-то правду искало вперед у царя, да царь не послушал! – сказал Степан, с жарким желанием оправдать отца.
– А батька твой взялся наместо царя?! Все вы дети – что батьки, что сыновья! – заключил дьяк. – Державное дело – не шутка! Раз царь не послушал – знать, время тогда не пришло... Убили, что ль, батьку? – сочувственно спросил дьяк. – Я слышал – в конце войны он загинул.
– Искатовали всего паны. Места живого нету, лежит.
– А ты за батькины раны к Зосиме – Савватию на богомолье, да по пути хочешь Русь на праведный путь кулаком наставить?! – с насмешкой сказал дьяк и серьезно добавил: – Не так строят правду, Степанка. Всяк человек свое дело ведай, а в чужое не лезь – то будет и правда! А коли всяк станет всякого наставлять кулаками, так и держава не устоит – псарня станет!..
Думный дьяк дописал еще строчку в только что начатой коротенькой грамотке и сложил листок вчетверо.
– Отдай сию грамоту во зимовой станице [Зимовая станица – находилась постоянно в Москве. На каждую зиму в нее выбирали новых казаков. Весной зимовавшие казаки всей станицей сопровождали на Дон царское жалованье] атаману Ереме Клину, – сказал он, отпуская Степана.
Донские казаки обступили Степана. Некоторых из зимовой станицы он знал раньше. Других, может быть, никогда и не видел, но лица их, голоса, повадка – все казалось ему родным и знакомым. Он словно попал домой, в свою семью.
Его заставили рассказать всей станице свои приключения. Слушали, добродушно подсмеивались, дразнили его.
Но когда Стенька рассказывал, что он поднял шум в Посольском приказе, все одобрительно заговорили:
– Знай наших! Донские не пропадут. Видать казака по нраву!
Стенька пересказал и весь разговор с Алмазом Ивановым. Громкий хохот прерывал его все время, и юный казак не сразу взял в разум, что тут смешного.
– Да как же ты, Разиненок, с Алмазом Иванычем в спор ввязался?! – воскликнул Ерема Клин. – Алмаз-то Иваныч ведь думный дьяк! Ты помысли-ка: думный! Ведь он в царской Думе с боярами рядом сидит, он всех послов из чужих земель принимает и споры с ними ведет, у самого государя в палатах повсядни бывает, советы дает царю. А ты его поучать?! Ну, сказывай дальше, каков у вас спор был?
Степан рассказал, как Алмаз, хлопнув по бумагам ладонью, сказал, что сам государь, да и он с государем, трудится для той же великой правды, за какую пошел Тимофей Разя.
– Ого! Вот так притча! – не выдержал Клин. – Вон про что он с тобой толковал! – Ерема Клин подмигнул окружавшим его казакам. – Знать, послы от гетмана Хмеля – Силуян да Кондрат Бырляй недаром приезжали в Москву просить принять Запорожье под царскую руку... Ну, добрые вести, Стенька!.. Небось Алмаз, каб разумным тебя почитал, не открыл бы тебе столь великой державной тайны...
– Алмаз – человек-алмаз! Он друг казакам! – заговорили вокруг.
– Не боярская кость! – поддержали другие.
Кашевар зазвонил в чугунную сковороду, и казаки стали вытаскивать ложки. Стеньку посадили к миске с варевом, расспрашивали про Дон, про Черкасск, про набеги крымцев, как миновала зима, как ловится рыба...
– Написал мне Алмаз Иваныч – тебя поучить за то, что ты всю державу на правду своим кулаком хошь направить, – сказал после ужина Клин и начал отчитывать Стеньку.
Но даже ворчливая речь атамана была Стеньке радостна после всех злоключений. Да и нельзя сказать, что Ерема сильно бранился. Больше всего он ворчал на московскую волокиту, на то, что станицу так долго не отпускают на Дон, до сих пор не сполна дали сукна и порох еще не весь отпустили. Расспрашивал про отца, потом угостил Стеньку водкой и сказал, что наутро отпустит его посмотреть Москву, чтобы только нигде, спаси бог, не вступался в драку. И после всего, наконец, похвалил Степана, что он не спустил купцу и побил ему рожу.
– Пусть знает донских казаков! – заключил Ерема.
Наутро все казаки зимовой станицы принимали участие в сборах Стеньки. Чтобы пройтись по Москве, ему дали поновее кафтан, лучшего дегтя для смазки сапог и красивую шелковистую шапку, неплоше той, какую когда-то ему подарил Корнила.
Сам Ерема Клин осмотрел его и, хлопнув ладонью между лопаток, весело заключил:
– Казачина ладный! Иди погляди Москву. На всю жизнь упомнишь.
Стенька вышел изо двора, где стояла станица, и весело зашагал перелеском, ржаною нивкой и слободой, у входа в которую чернела вблизи дороги закопченная кузня.
Улицы слободы вдоль заборов и стен домов поросли травой, в которой сверкали под утренним солнцем цветы одуванчиков и ромашки. Из открытых окон домов доносились запахи варева. Хозяйки уже возвращались с кошелками с торга. На перекрестках всюду сидели торговки квасом, солеными огурцами, мочеными яблоками.
Степан купил полный карман жареного тыквенного семени и, поплевывая, шел вразвалку, походкой беспечного человека.