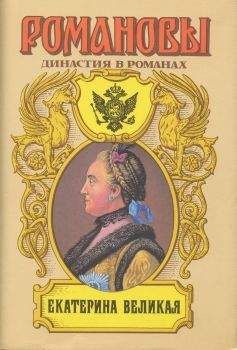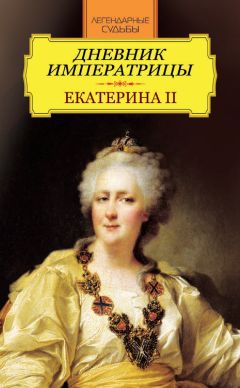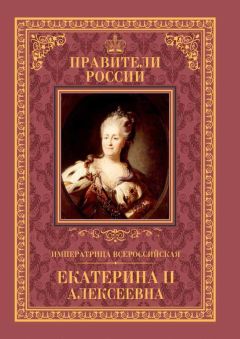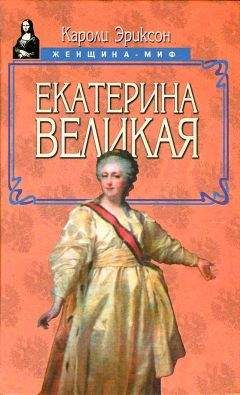– Подойди. От тебя нет и не имею я тайн. Не должен иметь их и сын мой, наследник мой! – с ударением проговорил Павел.
Не выдав ничем своего внутреннего недовольства, с обычным ласковым лицом и ясным взором протянул Александр руку Аракчееву.
– Как рад я, что могу видеть истинного друга, хотя бы одного, себе и его высочеству, среди окружающих нас! Прошу не отвергать мою дружбу, Алексей Андреевич!
Грубое, невыразительное лицо будущего диктатора-лакея осклабилось, приняло умилённо-растроганный вид. Даже всхлипывания послышались в его хриплом голосе, когда он, согнувшись пополам, бережно касаясь руки Александра, проговорил:
– Ваше высочество! Духу не хватает выразить! Бог видит сердце… Вы узнаете вскоре преданность раба своего!..
– Довольно болтовни. К делу. Чего же вы желаете, ваше высочество? Зачем, собственно, желали видеть меня?
– Спросить, как посоветуете, как прикажете поступить в столь трудном положении. Долгом счёл открыть вам душу и то, что задумано… И представить бумаги, вручённые мне, ваше высочество.
– Видел… Прочёл! Великолепно! Мать родная, эта старая, грешная женщина… Она могла!.. Но что же мне остаётся? Что должен делать? Вы скажите, ваше высочество! Я убедился, сердце и душа чисты остались в моём сыне, благодарение Богу. Пожалуй, даже и хорошо, что не воспротивились вы сразу таким низким планам. Что-либо худшее могла предпринять тогда эта старая, хитрая пра… правительница, матушка моя!.. Чужого принца могла бы призвать, лишь бы не меня. О, я знаю, она всё может… Как же быть?
Вдруг, глядя в глаза сыну, он спросил:
– А вы тут стоите не с тем, чтобы вызнать что-либо и потом…
– Ваше высочество!..
– Ну, не волнуйтесь, не оскорбляйтесь. Я ваш отец, прошу не забывать… Я – государь ваш в будущем, по законам людским и Божьим… И хочу проверить, насколько искренни ваши намерения и слова. Слушайте меня!
Приняв совсем особую осанку, стараясь быть величественнее, торжественным тоном Павел произнёс:
– Готовы ли принять теперь же присягу на верность мне, вашему государю и отцу, когда Бог призовёт нашу добрейшую государыню, так любящую своего внука?
Выпуклые, сверкающие глаза отца так и сверлят сына, будто в душу его хотят заглянуть.
Александр увидел перед собой новый, неожиданный, но очень приятный исход. Присяга! Это снимет с его души и совести ответственность за всё дальнейшее. Он может тогда оставаться спокойным зрителем, что бы ни случилось потом. Пусть другие, ретивые актёры этой трагикомедий льют слёзы и кровь, радуются и рыдают, как им угодно!
Он, Александр, связанный присягой, но и освобождённый ею от необходимости выступать и действовать самостоятельно, может занять место в первом ряду, созерцать, аплодировать, шикать… Только не играть… А это всё, что ему приятно и желательно в мире…
С просветлённым лицом, искренно, живо отозвался сын на предложение отца:
– Когда угодно готов присягнуть, ваше высочество…
– Да?! Прекрасно. Теперь вижу, верю. И он, Константин… Его зови, Алексей Андреич! И будешь свидетелем… И его зови!.. Но пока, мой сын, храните тайну. И не спорьте с больной старухой, чтобы она ещё чего худшего не придумала… Понимаете, ваше высочество?!
– Слушаю, ваше величество…
– Величес… Да, да! С этой минуты я для вас – ваше величество, вы правы… Раз присяга принята вами будет… вы правы… Ха-ха-ха!.. Назло всем… и ей, этой… старой, хитрой матушке моей, императрице Екатерине… «великой»… Ха-ха-ха!.. Всё-таки я величество, и никто другой…
* * *
24 сентября, через неделю после беседы с отцом и присяги, Екатерина получила от старшего внука письмо следующего содержания:
«Ваше Императорское Величество!
Я никогда не буду в состоянии достаточно выразить свою благодарность за доверие, каким Ваше Величество изволили почтить меня, и за ту доброту, с какою изволили дать собственноручное пояснение к остальным бумагам. Я надеюсь, что, видя моё усердие заслужить неоценённое благоволение Ваше, Ваше Величество убедится, насколько сильно я чувствую значение милости, мне оказанной.
Действительно, даже своею кровью я не в состоянии отплатить за всё то, что вы соблаговолили уже и ещё желаете сделать для меня. Бумаги эти с полною очевидностью подтверждают все соображения, которые Вашему Величеству благоугодно было сообщить мне и которые, если позволено будет мне высказаться, как нельзя более справедливы. Ещё раз повергая к стопам Вашего Императорского Величества чувства моей живейшей благодарности, осмеливаюсь быть с глубочайшим благоговением и самою неизменною преданностью.
Вашего Императорского Величества всенижайший, всепокорнейший подданный и внук
Александр».
«Ну, вот и хорошо! – подумала Екатерина, глядя на ровные, чёткие строки письма. – Немножко холодно. Но дело такое, что нежности тут были бы не к лицу. У мальчика есть такт. И как он мило пишет. Интересно, кто поправлял ему слог. Лагарпа нет… Верно, Чарторыйский… Но теперь главное сделано! Хвала Небу!»
И она долго вглядывалась в текст письма… По-французски князь писал тоньше и связнее, чем по-русски. Даже на её собственный почерк похож почерк внука…
Если бы и правление его было похоже по удачам на её царствование…
«Тогда счастлива будет воистину Россия», – со вздохом подумала Екатерина.
Но до получения этого приятного письма, в правдивости которого и не подумала усомниться старая государыня, ей пришлось пережить немало тяжёлых минут.
* * *
На 20 сентября, как раз в день рождения цесаревича Павла, назначен был отъезд короля и герцога со свитой.
Но за три дня до того, для прекращения лишних толков и сохранения приличий, жених и невеста обменялись подарками, и было оглашено, что всё обстоит благополучно. Предложение Густава-Адольфа относительно совещания с Генеральными штатами было как будто принято всерьёз и пущено в большую публику.
Сватовство, как оповестили столицу, состоялось. Но вопрос о греческой вере невесты заставляет отложить дело на два месяца, и, конечно, будет решён Генеральными штатами благоприятно.
Общество сделало вид, что удовлетворено причиной отсрочки. Но имя княжны Александры было у всех на языке, и произносили его с нежным сожалением и участием даже те, кто никогда не видел малютки…
Красивы и богаты были подарки жениха. Он вспомнил, какие камни любит его невеста. Крупные сапфиры и изумруды сверкали в тонкой изящной оправе на тёмном бархате тяжёлых, больших футляров.
Ничем не выдала своего отчаяния девушка, когда ей принесли подарки навсегда уезжающего жениха. Не хотелось ей при чужих, посторонних людях обнаружить своего горя.
Но едва ушли чужие, она только сказала с мольбой:
– Уберите… унесите, скорее унесите это…
И снова долгие, неудержимые рыдания потрясали молодое, нежное тело покинутой ещё до брака бедной малютки невесты.
Как ни странно, но в мрачных стенах павловских дворцов, рядом с дворцом Екатерины, где царило распутство русских вельмож и их жён, смешанное с тонким развратом, занесённым в Россию с берегов Сены, – в этом омуте уцелела такая чистая, невинная душа. Словно голубой цветок среди гнилого, глубокого болота, расцвела княжна, ещё не успела узнать жизнь и была уже раздавлена, измята руками честолюбцев и глупцов, которые не подумали, как тяжело будет расплачиваться чистой душе за их ошибки и грехи…
* * *
В день рождения цесаревича Павла императрица поднялась с постели позже обычного времени.
Неудачи приходят всегда чередою: мелкие следом за крупными.
Два дня тому назад, желая принять ванну, Екатерина, не желая никого беспокоить, осторожно двинулась к лестнице, ведущей вниз, где ждали прислужницы, обычно помогающие ей при мытье.
Также осторожно, чувствуя, как слабы и неверны её шаги, стала спускаться она по первой, небольшой лестнице, вдруг оступилась и покатилась вниз до самой площадки.
Лёгкий крик и шум падения долетел до слуха Захара который сидел в соседней прихожей. Он кинулся к Екатерине, едва поднял её грузное тело и довёл её, тихо стонущую, до постели.
– Не говори генералу… никому… Что, лицо ушиблено? Знака нет? И хорошо… Роджерсона позо…
Она не договорила, потеряв сознание.
Но сильное тело справилось и с этим довольно легко. Пришлось пустить кровь опять; несколько синих подтёков осталось на боку и на груди.
А через два дня Екатерина уже работала, принимала министров и, как всегда, остаток вечера сидела за картами.
В день рождения Павла снова вернулась досадная немощь к Екатерине.
– Знаешь, Саввишна, – обратилась она к верной старой служанке, меняя утренний капот на дневное обычное платье, – что-то особенное нынче произойти должно. Покойную государыню видела я во сне… и матушку свою… И его… мужа… Всё мне теперь снится он. Иной раз боюся, право, в тёмный угол поглядеть к вечеру. Вдруг привидится от расстройства моего? Что станет со мною? Только гляди, строго приказываю: не проболтайся. Смеяться станут надо мной, что о таких глупостях думаю. Сама век надо всем этим шучивала. А вот под старость вышло…