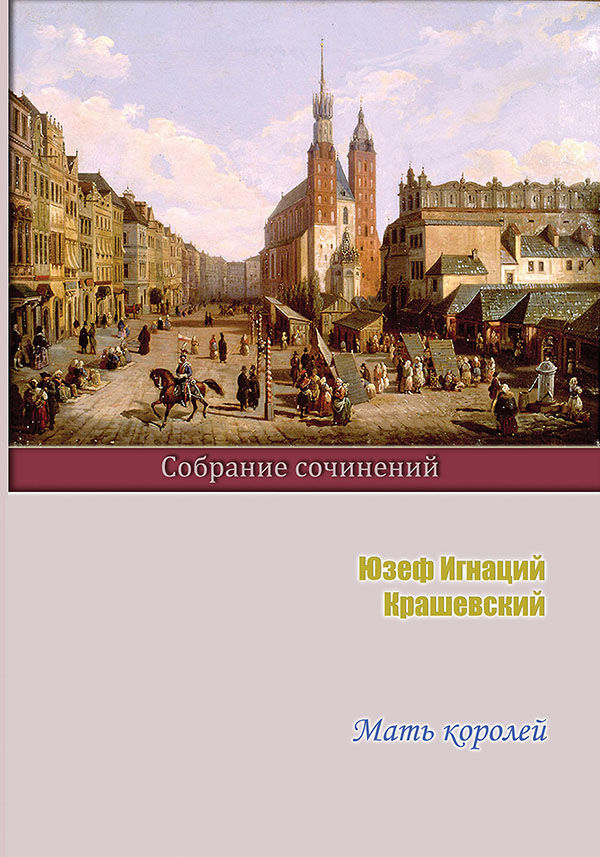очень рано, с небольшой, но всегда подходящей к его чину свитой, в костюме, строго подобранным ко времени суток и месту, ходил на святую мессу во францисканский монастырь, ближайший к дому Гневоша.
А так как к обязанностям сана относилось щедрая милостыня, герцог брал с собой казначея, который демонстративно её раздавал, и монастырю также давал панское пособие.
Священники чувствовали себя обязанными торжественно принимать этого благодетеля монастыря на пороге со святой водой и раз или два осмелились даже пригласить в трапезную. Герцог, которому было достаточно скучно в одиноком доме Гневоша, довольный, что ему поклонялись и почитали, охотно удостаивал чести своими визитами детей святого Франциска. Всегда было отличием бедных монахов этого ордена, что свою бедность носили весело и суровую жизнь подкрашивали чуть ли не детской свободой духа.
Настоятелем в то время был отец Францишек, монах непомерной мягкости и доброты, большой простоты и пламенного духа, который даже мученичество сумел бы вынести, не потеряв того добродушного веселья, которое всегда на его устах улыбалось плохому и хорошему.
Он был известен тем, что благочестиво пренебрегал всем земным и обращал в шутку. Говорили, что за монастырской стеной с монахами он был не менее суров, но в обхождении со светом он настаивал на том, чтобы сыновья святого Франциска никогда не показывали, как донимало их это положение.
– Мы должны быть счастливы и всегда показывать весёлые лица, ибо нам в удел досталась добрая доля.
Отец Францишек был очень гостеприимным. Герцог Вильгельм его и монахов очень полюбил.
В замке знали от Бобрка о каждом шаге молодого государя, королева тоже узнала, что он был очень благочестив в этом костёле, который стоял недалеко от замка, тут же под стенами.
Хоть каштелян наблюдал за более тесным общением австрийца с королевой, от него многое умели скрывать, а приготовления к созванному съезду и постоянные совещания насчёт условий, какие должны были поставить Ягайлле, занимали все умы. Наконец Ясько из Тенчина не был за то, чтобы держать королеву слишком сурово и напрасно её раздражать. Он предпочитал сквозь пальцы смотреть на то, что называл детской забавой.
– Когда будет нужно, – говорил он, – мы выступим, хоть бы на коленях, и уговорим её; теперь… пусть развлекается и пользуется временем.
Добеслав голосовал уже давно, но один, за насильное удаление герцога.
Спытек, такой же сострадательный, как каштелян, сопротивлялся.
– Для этого время будет, – говорил он, – сама королева, когда увидит необходимость, смирится с ней.
Созыв съезда в Краков касался и Великопольши. Тут снова хлопотал и был деятелен Бартош.
Хотя Семко, живя в Кракове, ни во что вмешиваться не хотел, отталкивал навязанные надежды, Бартош бегал и будил Наленчей, уверенный, что князь, когда сам убедится, что есть на кого опереться, даст себя вырвать из этой бездеятельности. Семко теперь мало кто понимал, да и он сам себя, может, немного. Королева была для него волшебством и обаянием; у него не было ни малейшей надежды заполучить её, а оторваться ему оттуда было трудно. Ядвига тоже предпочитала его другим, может, потому, что он явно в сватание не вмешивался.
Его приглашали в замок, в когда Хандслик пел, глядя в глаза королевы, Семко, слушая песни, забывался и часами сидел в каких-то блаженных грёзах, не произнося ни слова.
Подозревали, что в этом отряде красивых девиц, какой окружал королеву, ему мог кто-нибудь понравиться, но ни к одной никогда он не проявлял ни малейшей склонности. Разочарованный несчастным покушением на корону, он будто отупел. Его будущее было уже заранее определено, спокойная жизнь в Плоцком замке с сестрой Ягайллы; ничего больше. Это не было теперь для него ни большим счастьем, ни большим злом. Он говорил себе, что доля Мазовецких князей – угасать в своих владениях.
Несмотря на это явное равнодушие, в Великой Польше, уже наперекор малопольским панам, чтобы кого-нибудь противопоставить их Ягайллы, снова достали Пяста и Семко…
О Януше не могло быть и речи, а Опольский пробуждал отвращение и страх. Он один остался… Те великополяне, которые собирались на съезд, везли с собой имя того, которого в Серадзе провозгласили королём.
Вызванные начали съезжаться в Краков, но, что легко было предвидеть, великополян приехало немного. Некоторые говорили, что раз ими пренебрегали и на их призыв не появлялись, они тоже могли уйти. Другие, поскольку гражданская война не была полностью предотвращена, не хотели отступить от своих замков, чтобы противники их не захватили.
Когда наступил назначенный день, едва появилась маленькая кучка из Великопольши, а та, подговорённая Бартошем, вся пошла поклониться Семко, сообщая, что будет поддерживать его выбор. Когда вдруг однажды утром уже остывшего и отказавшегося от всяких надежд Семко подхватил этот неожиданный поворот, которого тот не мог предвидеть, он вызвал чрезвычайное недоумение и страх.
Он об этом даже уже не мечтал.
Когда эта толпа, хорошо ему знакомая с Серадзя, шумная, весёлая, гордая, внезапно заняла весь постоялый двор, а Лепеха с Бартошем и Ласотой вбежали в комнату, неся князю поклон и новую мишуру, какие-то новые надежды, Семко какое-то время не мог собраться с мыслями и прийти в себя.
Но он не был уже тем неопытным юношей, которого раньше легко было захватить; теперь в его характере была сила и, однажды что-то решив, он не отступал. У сестры Ягайллы было его кольцо, у него – слово литовского князя, он был связан обещанием и не верил уже в ту силу великополян, которая не могла бороться с хитростью краковян.
Он сам на себе этим несчастным перемирием, которым его коварно взяли, испытал, что с ними не справится. Поэтому перед Бартошем, Лепехой и Ласотой он стоял безмолвный и грустный. Он слушал их, но Бартош заметил, что в нём ничего не дрогнуло. Лепеха, подняв вверх руку, обещал ему, что не дадут себя сломить… и будут голосовать за него, и останутся верными крови Пястов. Ему вторил Ласота, поддерживал Бартош, только когда все закончили, и дошла очередь до князя, Семко им сказал:
– Бог воздаст вам за ваши добрые сердца. Делайте то, что они вам советуют, я не могу ничего предпринять, потому что связан, да и сил не чувствую для того, чтобы тягаться с Ягайллой, который им принесёт в сто раз больше.
Лепеха начал кричать, что по этому праву и татарского хана можно было бы посадить на трон из-за его сокровищ и силы, а для крови своих панов стать вероломными; они же хотят остаться верными тем, кто есть костью от их кости, кровью от их крови…
Князь благодарил, но