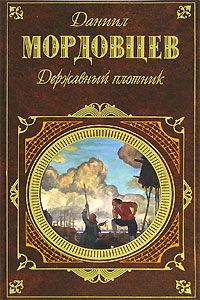— Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? — ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.
— С робятками катацца... Пусти, баба.
— Со смердьими-ту дитьми? Ни-ни!
— Ниту, баба, — не со смердьими — с боярскими... Вася-посаднич... Гавря-тысячков... Пусти!
— Добро — иди, да токмо с челядью...
Мальчик убежал, стуча по полу салазками.
— Весь в тебя — огонь малец, — улыбнулась гостья.
— В отца... в Митю... блажной.
Скоро приятельницы увидели в окно, как этот «блажной» внучок Марфы уже летел на своих раззолоченных салазках вдоль берега Волхова. Три дюжих парня, словно тройка коней, держась за веревки, бежали вскачь и звенели бубенчиками, наподобие пристяжных, откидывая головы направо и налево, а парень в корню даже ржал по-лошадиному. Маленький боярчонок вошел в роль кучера и усердно хлестал по спинам своих коней шелковым кнутиком. За ним поспешали с своими салазками «Вася-посаднич» да «Гавря-тысячков».
— А вон и сам легок на помине.
— Кто, Настенька? — встрепенулась Марфа.
— Да твой-то...
— Что ты, Настенька... Кто?
— Хохлач-то чумазый...
— А-ах, уж и мой!
Действительно, в это время мимо окон, где сидела Марфа с своею гостьею, проезжал на статном вороном коне князь Михайло Олелькович. Он был необыкновенно картинен в своем литовском, скорее киевском одеянии: зеленый зипун с позументами на груди, верхний опашень с откидными рукавами, с красной подбойкой и с красным откидным воротом; на голове — серая барашковая шапка с красным колпаком наверху, сдвинутая набекрень. За ним ехали два вершника в таких же почти одеждах, но попроще, зато в широчайших, желтых, как цветущий подсолнух, штанах.
Проезжая мимо дома Борецких, князь глядел на окна этого дома, и, увидав в одном из них женские лица, снял шапку и поклонился. Поклонились и ему в окне.
— Ишь буркалищи запущает. Ух!
— Это на тебя, Настенька, — отшутилась Марфа.
— Сказывай! На меня-то, курносату репу...
Белобрысая и весноватая приятельница Марфы была действительно неказиста. Но зато богата: всякий раз, как московский великий князь Иван Васильевич навещал свою отчину, Великий Новгород, он непременно гащивал либо у Марфы Борецкой, либо у Настасьи Григоровичевой, у «курносой репы».
— А скажи мне на милость, Марфуша, — обратилась Настасья к своей приятельнице, когда статная фигура Олельковича скрылась из глаз, — я вот никоим способом в толк не возьму — за коим дедом мы с Литвой путаться на вече постановили, с оным королем, с Коземиром? Вопрошала я о том муженька своего, как он от нашево конца в посольство с твоим Митей к Коземиру посылан был, — так одна от нево отповедь: «Ты, — говорит, — баба дура...»
Марфа добродушно улыбнулась простоте приятельницы, которая не отличалась и умом, а была зато добруха.
— Да как тебе сказать, Настенька, — заговорила она, подумав. — Московское-то чадушко, Иванушко князь, недоброе на нас, на волю новгородскую, умыслил — охолопить нас в уме имеет. Так мы от него, аки голубица от коршуна, к королю под крыло хоронимся, токмо воли своей ему не продаем и себя в грамоте выгораживаем: ни медов ему не варим, как московским князьям дозде варивали, ни даров ему не даем, ни мыта княженецкого, а токмодеи послам и гостям нашим путь чист по литовской земле, литовским — путь чист по новгородской.
— А как же, милая, о латынстве люди сказывают?
— То они сказывают безлепично, своею дуростию.
— А про черный бор сказывали?
— Что ж черный бор! Бор-ту единожды соберем, как и всегда так поводилось, а черную куну будут платить королю токмо порубежные волости — ржевски да великолуцки.
— Так. А хохлач-то почто сидит на Ярославове дворище?
— Он княж наместник, и суд ему токмо судить на владычнем дворе[52] заодно с посадником. А в суды тысячково и влыдычни и монастырски — ему не вступать.
— Так-так... Спасибо. Вот и я знаю топерево. А то на: «дура» да «дура»...
В это время на улице под самыми окнами показались скоморохи. Их было человек семь. Некоторые из них были в «харях» и выделывали разные характерные телодвижения, неистово играя и дудя на сопелях, дудах и свистелях.
В то же время в комнату, но уже без салазок, влетел счастливый и раскрасневшийся внучек Марфы, да так и повис на ее подоле.
— Баба, баба! Пусти в хоромы гостьище Терентьище! — просил он, умоляюще глядя на бабку.
— Полно, дурачок...
— Пусти! Пусти, баба!
— И то пусти, Марфушка, — присоединилась со своей просьбой и гостья. — Я так люблю скоморохов — таково хорошо они действа показывают.
— Баба! Бабуся! Пусти!
— Ну ино пусть войдут...
Скоморохи не заставили себя ждать. Уже скоро Исачко — так звали внучка Марфы-посадницы в честь деда, Исаака Борецкого, — опять влетел в палату, а за ним, с поклонами, кривляньями и разными мимическими ужимками, вошли скоморохи... Один из них, с длинною мочальною бородой, изображал подслеповатого и тугого на ухо старика — «гостя Терентьища», у которого на поясе висела большая калита. Рядом с ним жеманно выступал молодой краснощекий парень, одетый бабою. «Баба» была набелена и насурмлена, неистово закатывала глаза под лоб, показывая, что она «очами намизает» — глазками стреляет... Изображалась молодая жена гостя Терентьища — полнотелая Авдотья Ивановна.
При виде этой пары добродушная и простоватая приятельница Марфы так и покатилась со смеху, хватаясь пухлыми руками за свой почтенных размеров живот.
— Ох! Умру!.. — качалась она всем телом.
Другие скоморохи также старались поддержать свою репутацию — «людей веселых и вежливых», «скоморохов очестливых» — и тоже кривлялись с достаточным усердием. Говорили они большею частью прибаутками и притчами, так, чтобы выходило и «ладно», и «складно», и ушам «не зазорно».
— Жил-был в Новгороде, в красной слободе Юрьевской, честной гость Терентьище, — тараторил один краснобай, подмигивая льняной бороде, — муж богатый, ума палата...
Льняная борода охорашивалась и кланялась:
— Прошу любить и жаловать, вдова честная...
— И была у нево жена молодая, приветливая, шея лебедина, брови соболины...
«Молодая Авдотья Ивановна» жеманно кланялась — «хребтом вихляла, очами намизала», аркучи тако:
— И меня, младу, прошу в милости держать...
Потом Авдотья Ивановна стала охать, хвататься за сердце, за голову...
— Что с тобой, моя женушка милая? — участливо спрашивал старый муж.
— Ох, мой муженек Терентьище! Неможется мне, нездоровится...
Расходился недуг в голове,
Разыгрался утин в хребете,
Подступил недуг к сердечушку...
— Ах, моя милая! Чем мне помочь тебе?
— Ох-ох, зови волхвов ко мне, зови кудесницу...
Старый муж заметался и вместе с некоторыми из скоморохов ушел в сени, а оставшийся с Авдотьею Ивановною молодой «прелестник» стал весьма откровенно «изгонять из нея недуг» — обнимать и миловать...
Настасья Григоровичева и юный Исачко заливались веселым смехом, глядя на игру скоморохов...
Вдруг, по ходу действа, в сенях послышались голоса:
— Калики перехожие[53] идут... Калики!
«Прелестник», испугавшись этих голосов, заметался и спрятался под лавку, покрытую ковром. В палату вошли теперь — в виде «калик перехожих...» Один из калик, самый дюжий, тащил на спине огромный мешок, в котором что-то шевелилось, и положил мешок на пол у порога.
— Здравствуй, матушка Авдотья Ивановна! — кланялись «калики».
— Здравия желаю вам, калики перехожие! — отвечала Терентьиха. — Не встречали ли вы моего муженька, гостя Терентьища?
— Сустрели, матушка: приказал он тебе долго жить... Лежит он в поле мертвый, а вороны клюют его тело белое.
Запрыгала и забила в ладоши от радости Терентьиха.
— Ах, спасибо вам, калики перехожие, за добрую весточку!.. А сыграйте-ко про моево муже старово, постылово веселую песенку, а я, млада, на радостях скакать-плясать буду...
Заиграли и задудели скоморохи. Пошла Терентьиха выплясывать, приговаривая:
Умер, умер Терентьище!
Околел постылый муж!..
Вдруг из мешка выскакивает сам Терентьище с дубиною и бросается на жену. Жена взвизгивает и падает на пол. Терентьище бросается на ее «прелестника», которого ноги торчали из-под лавки...
— А! Вот где твой недуг! Вон куда утин забрался!
И пошла писать дубинка по спине «недуга»... «Недуг» выскакивает из-под лавки и бежит вон, Терентьище за ним...
Кругом хохот... Маленький Исачко плещет от радости в ладоши.
Вдруг в дверях показывается — и кто же! — сам князь Михайло Олелькович...
Марфа так и побагровела от неожиданности и стыда... «Ах, сором какой! Сором!..»
Наступила весна. Новгород, вместе с своими монастырями и посадами раскинувшийся на десятки верст в окружности, казалось, тонул в зелени.
Утро. Солнце, которого диск еще не выкатывался из-за горизонта, золотило, однако, своими лучами кресты некоторых новгородских церквей и колокольни монастырей Юрьева, Антоньева и блестевшие густою позолотою маковки церквей Хутынского и Перыня.