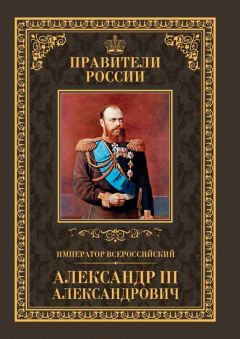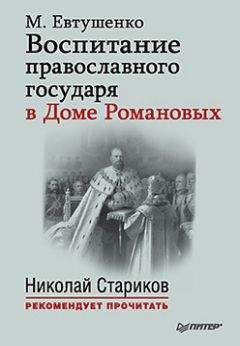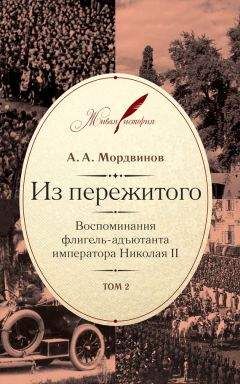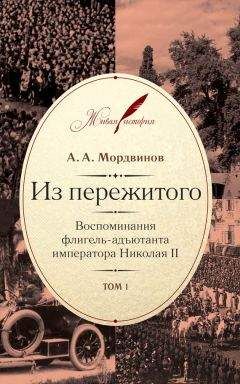– А вы ноги лучше вытрите. Не натаскивайте грязи.
Коротко стриженная, с мелкими чертами огрубевшего лица, Перовская снимала конспиративную квартиру по паспорту жены мастерового. Говорила она мало. Но если высказывала своё мнение, то была готова отстаивать его до конца, пока не убеждалась, что спорящего невозможно обратить в свою веру.
Теперь Перовская тихо, но твёрдо сказала:
– Мы затеяли большое дело. Быть может, двум поколениям придётся лечь, но сделать его надо…
У неё ещё не было мысли о революции, о насильственном переустройстве общества по определённому плану. Она, как и большинство «чайковцев», просто желала обучить народ грамоте, просветить его, помочь ему выбраться из тьмы и в то же время узнать у самого народа, каков его идеал лучшей жизни. Конечно, для дочери генерала и аристократки народ представлялся чем-то весьма далёким от реальности, но в этом она разделяла оптический обман едва ли не всех «чайковцев», да и не только их. Верилось, что достаточно распространить в народе знания, как он осознает гибельность самодержавия и тотчас примется строить Россию – новую и прекрасную – по чужим книжным рецептам.
«Чайковцы» покупали целыми тиражами сочинения Лассаля, Маркса, критические труды по русской истории и распространяли их среди студентов и в провинциальных городах. Через несколько лет в тридцати восьми губерниях Российской империи не было сколько-нибудь значительного города, где организация не имела бы агентов, занимавшихся распространением нелегальщины. Дальше этого «чайковцы» не шли. Когда Кропоткину поручили составить программу действий и он поставил целью крестьянские восстания, захват земли и помещичьей собственности, на его стороне оказались только Перовская, Степняк-Кравчинский[62], Чарушин[63] и Тихомиров. Приходилось подчиняться мнению большинства….
Сам Тихомиров увлечённо сочинял, в подражание любимому Щедрину, политические сказки, которые расходились не только в массе студенчества, но и среди петербургских рабочих. На этот раз он принёс «Где лучше?» – сказку о четырёх братьях и об их приключениях, и трудился над «Пугачёвщиной».
– Давайте послушаем Льва, – предложила Перовская.
Ей нравился этот спокойный юноша с иконописным лицом, хотя по своему характеру Тихомиров вряд ли подходил для неё. Перовская могла скорее уважать и особенно жалеть его, но любить – едва ли. Ей, при её натуре, нужен был человек, которому она могла бы подчиняться, а у Тихомирова этого никогда не было. Тем не менее между ними возникло нечто вроде платонического романа, когда взгляды говорят куда больше, нежели слова.
Несколько смущаясь, Тихомиров принялся читать. Это была притча о путешествии четырёх братьев на восток, запад, север и юг в поисках правды. Но всё, что встречалось им на пути, говорило о тяжёлом, безысходном положении народа. Изрядно натерпевшись от капитала, государства, помещиков, братья сошлись – все четверо – на границе Сибири, куда их сослали, и горько заплакали. Сказка всем очень понравилась.
– Может быть, это именно ваш жанр, – сказал Чарушин.
Кропоткин поправил очки.
– Только концовка никуда не годится…
– Что же вы предлагаете? – спросила Перовская.
– Да что это за слёзы вместо действия! На самом деле братья расстаются на границе Сибири и идут по России на все четыре стороны. Проповедовать бунт!..
– А пожалуй, Пётр Алексеевич прав, – задумчиво произнесла Перовская. – Иначе пропадёт весь агитационный заряд.
– Вот и попросим Кропоткина написать новый конец. – Клеменц приобнял Тихомирова. – Надеюсь, Лев Александрович, ваше авторское самолюбие не будет уязвлено…
– Да нет, мне даже лестно, что Пётр Алексеевич пройдётся своим изящным пером по рукописи, – ответил Тихомиров.
– Ну уж насчёт изящества я не знаю, – не без самодовольства откликнулся Кропоткин. – А вот политического перца, думаю, добавлю!
– Вот и ладно! – подытожила Перовская. – А теперь о связях и знакомствах среди рабочих… Кроме литературных дел попросим Льва Александровича заняться и этим…
– Давайте привлечём к занятиям с рабочими не только членов кружка, но и тех, кто даже не знает о его существовании, – предложил Тихомиров.
– Пожалуй, – согласился Клеменц. – Ведь многие либералы дрожат даже при одном упоминании о тайном обществе. Они тут же переводят разговор на какие-нибудь гастрономические темы. Что-де осетринка с запашком или ростбиф пережарен. А нести знания простому народу пока что ещё никому не возбраняется…
– Не скажите, – криво усмехнулся Кропоткин. – После выстрела Каракозова интеллигенция живёт в постоянном страхе. Третье отделение всесильно. Каждого, кто подозревается в радикализме, могут забрать посреди ночи под любым предлогом. Да хоть за знакомство с лицами, замешанными в политических делах. За безобидную записку, захваченную во время обыска. Или просто за опасные убеждения. А уж чтение рабочим книжек?! Позвольте! Это приравнивается к потрясению основ. Арест неизбежен! А что означает арест, господа, вы и сами хорошо знаете. Годы заключения в Петропавловской крепости, ссылку в Сибирь или даже пытки в казематах!..
– Да, Александр Второй окружил себя крайними ретроградами и хоронит собственные реформы, – тихо и твёрдо проговорила Перовская.
– А вы представляете, господа, что я в юности боготворил императора, будучи его камер-пажом. И, ни секунды не колеблясь, готов был отдать за него жизнь. И вот теперь ненавижу его, – согнал с лица улыбку Кропоткин, жуя бороду.
– Но, кажется, в верхах зреет оппозиция, – полувопросительно сказал Чарушин. – Ходят упорные слухи о либерализме наследника.
– Знаю об этом. – Кропоткин покачал лысеющей головой. – Рассказывают – и не где-нибудь, а в салонах, – что цесаревич не надевает немецкого мундира, предпочитая ему русский. Я слышал от очевидца, что как-то на обеде, когда пили здоровье германского императора, великий князь нарочно разбил свой бокал. Ну и что с того? Можно быть деспотом и на чисто русский манер.
– Однако наследнику явно не по душе воровство и разбой, какие процветают вокруг трона, – заметил Тихомиров. – Он открыто осуждает разврат, царящий при дворе. Цесаревич честен и прямодушен. Кто знает, не обретём ли мы в нём государя, который дарует России конституцию?..
– Кроме того, конституции, как я слышал, желают и определённые лица в верхах. Даже великий князь Константин Николаевич, – поглядел Чарушин поверх своих синих очков.
– Вот что, друзья мои, – предложил Кропоткин. – Если вы решите вести агитацию в пользу конституции, то сделаем так. Я отделюсь от кружка в целях конспирации. И буду поддерживать связь через кого-нибудь одного. Например, через Тихомирова. Вы будете сообщать мне через него о вашей деятельности. А я буду знакомить вас в общих чертах с моей. Я поведу агитацию, – князь внушительно оглядел собравшихся, – в высших придворных и военных кругах. Там у меня тьма знакомых. И я знаю немало таких, и не понаслышке, Николай Аполлонович, – он сделал полупоклон в сторону Чарушина, – кто недоволен современными порядками. Я постараюсь объединить их вместе. И, если удастся, создам организацию. А впоследствии, наверное, выпадет случай двинуть все эти силы, чтобы заставить царя дать России конституцию. Придёт время, когда эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих же собственных интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. А великий князь Александр Александрович? Верно, на него возлагают определённые надежды даже в самых высших сферах. Он любит армию. Что ж, попробуем найти путь и к наследнику. Например, через штаб-ротмистра Кузьминского. Отчаянный кавалергард и герой, известный и царю, и великим князьям. Он мог бы вызвать цесаревича на откровенный разговор…
– Друзья! – предложила Перовская. – Надежды на наследника, возможно, и серьёзны. Но не будем уповать на добрую волю самодержцев! Давайте-ка споём наше, революционное! Дмитрий Александрович! Может, «Долю»? Вы как автор и начните…
Клеменц не заставил себя упрашивать и приятным мягким баритоном запел:
Эх ты, доля, моя доля,
Доля горькая моя,
Ах, зачем ты, злая доля,
До Сибири довела?
И Перовская неожиданным для неё низким голосом подхватила припев:
Динь-дон, динь-дон, слышен звон кандальный,
Динь-дон, динь-дон, путь сибирский дальний…
Динь-дон, динь-дон слышно там и тут –
Это товарищей на каторгу ведут!
Вступили мужские голоса; не пел лишь князь Кропоткин.
Год несчастный был, голодный,
Стали подати сбирать
И крестьянские пожитки
И скотину продавать.
Я от мира с челобитной
К самому царю пошёл,
Да схватили по дороге,
До царя я не дошёл…