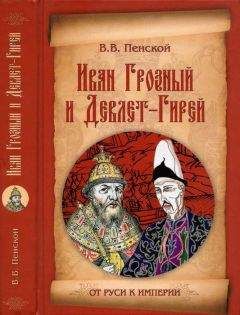— Не запирайся, боярин, — говорил он старику Нарышкину, — говори сущую правду. Надевал на себя твой сын Иван царскую диодиму, а, надевал?
— Не знаю, — был ответ, — всемогущим Богом клянусь, не знаю.
— А скифетро и державное яблоко брал в руки?
— И этого, видит Бог, не ведаю.
— Добро… Так мы ему сами розыск учиним: сказывай, где он?
— Хоть убейте меня, не знаю, — был тот же ответ.
— Мы и убьем… Любо ли, братцы? — обратился он к стрельцам.
Ответом был всеобщий крик: «Любо! Любо!»
— Батюшка! Родитель мой! Братцы мои родненькие! — послышался женский крик.
Это была сама царица Наталья. Услыхав, что нашли ее отца и братьев, она поспешила к ним на помощь.
Стрельцы посторонились и сняли шапки. Царица бросилась на шею к отцу. Все плакали.
Цыклер почтительно приблизился и заговорил мягким голосом:
— Матушка-царица! Не гневайся и не убивайся… На то Божья воля, чтобы родитель твой и братья положили живот свой за государское дело. Велико оно, государево дело… Мы пришли сюда по крестному целованию. Мы холопы его царского пресветлого величества: мы пришли разыскивать государевых недоброхотов. А кто государевы недоброхоты, те и наши недоброхоты… Иди, матушка, к государю, его царскому пресветлому величеству. А мы без тебя розыск учиним над государевыми лиходеями. Коли они выдадут первого бунту затейщика, Ивана Нарышкина, да Данилку-дохтура, мы живота их не лишим. А буде они не выдадут нам затейщиков, мы лишим их живота гораздо, по крестному целованию, на чем мы крест целовали нашему государю, его царскому пресветлому величеству.
Наталья Кирилловна, Нарышкины и стрельцы слушали молча, пока говорил Цыклер. Наконец царица прервала его.
— Добро, я доложусь о том великому государю, — сказала она, силясь подавить волнение и страх, — что его царское пресветлое величество укажет, то и учиним. А вам бы того своею волею чинить не гораздо, и то ваша вина.
Видимое спокойствие царицы озадачило стрельцов. Им и в самом деле пришло в голову: как же это они все делают без государева указу?
— Добро, государыня, — сказал в свою очередь Цыклер, — мы будем ждать государева указу до утрея.
С его стороны это была притворная покорность. Он должен был дождаться ночи: что ему прикажут оттуда.
Стрельцы тотчас же очистили дворец, но караул вокруг него оставили по-прежнему.
X. Данилка-дохтур и Нарышкин
Ранним утром следующего дня какой-то оборвыш в одежде нищего и с пустой сумой через плечо из Марьиной рощи пробирался к Москве. Истомленное лицо его выдавало крайнюю усталость, а может быть, и голод. Видно было, что это уже старик; но изорванная, облезлая меховая шапка была так сильно надвинута на глаза, что лица нищего нельзя было разобрать, тем более, что подбородок его был обвязан рваным платком. Нищий опирался на суковатую палку и, казалось, боязливо оглядывался по сторонам. Он, можно сказать, не шел, а тихонько крался. По всему можно было думать, что нищий провел всю ночь в пути и теперь не чаял дотащиться до Москвы.
Не доходя до немецкой слободки, нищий повстречался с двумя бабами, которые шли с плетенками за плечами и оживленно о чем-то разговаривали. Поравнявшись с нищим, они поздоровались.
— Откедова, дедушка, Бог несет? — спросила старшая из них.
— Издалече, матушка, — отвечал нищий.
— Странничек, поди, родимый?
— Странничек.
Нищему, казалось, скорей хотелось отделаться от вопросов, и он пошел дальше. Бабы это заметили и посмотрели ему вслед.
— А кажись, касатка, он бритый? — заметила старшая.
— И мне будто показалось, что бритый, — отвечала младшая.
— Бритый, бритый… Дивно мне это, касатка: бритый странничек!
— А Бог его ведает, кто он такой.
Нищий между тем шел своею дорогой. Как ни велика была его усталость, но он, видимо, торопился.
Наконец он вступил в одну из улочек немецкой слободки. Не успел он сделать нескольких шагов, как из-за угла выскочили два стрельца. Старик видимо оторопел.
— А! Дед, семидесяти лет, куда бредешь? — весело спросил один стрелец.
— В Москву, родимый, — был глухой, торопливый ответ.
— Дело пытаешь, аль от дела лытаешь?
— Дело, миленький.
— А какое такое дело у голого тела?
Старик не отвечал и торопился уйти.
— Да ты стой! — остановил его стрелец. — Али бродяга какой?
Старик не отвечал. Он совсем растерялся.
— Ба-ба-ба! Да это, кажись, скоморох… На нем харя надета.
— И то харя.
— А ну-ка, сыми тряпицу с хари, старец Божий.
И стрелец сорвал с лица его повязку.
— Вот те и клюква! Да он бритый.
— И точно, скобленое рыло… Вот притычина!
— Как есть в блудоносном образе… Сказывай, кто ты?
Старик молчал. Он дрожал всем телом.
— Сказывай скобленое рыло, немец ты?
— Да что с ним разговаривать! Веди на съезжую: там разберут.
Старик упал в ноги и заплакал.
— Отпустите меня православные: я бедный человек, я два дня не ел, — умолял он, — я никому дурна не учинил.
На съезжей скоро узнали, кто скрывался в одежде нищего. Это и был Даниэль фон Гаден, которого стрельцы напрасно искали во дворце.
Поимка фон Гадена сильно обрадовала стрельцов. Хотя страсти их дошли до крайнего исступления в два предшествовавшие дня смуты, однако, более благоразумные из них не могли не сознавать, что они зашли слишком далеко, что своевольную расправу их во дворце нельзя было назвать ничем другим, как прямым бунтом. В первый раз они ворвались в жилище царей в силу того якобы законного основания, что они шли оберегать царское семя: царевича-де Ивана удушили царские недоброхоты. Но царевич сам вышел к ним, и они увидели свою ошибку. Надо было принести повинную. Но они ее не принесли. Мало того — они во дворце учинили резню. Резню они оправдывали тем, что искали якобы опять-таки недоброхотов царских: царя де Федора извели отравою, а Иван-де Нарышкин брал в руки скифетро царское и говорил похвалки на молодого царя. Надо, стало быть, наказать царского изводчика Данилку-дохтура и посягателя на царское скифетро Ивашку Нарышкина. А коли укрыватели их, бояре, не выдадут изменников, тогда перебить всех бояр.
Теперь Данилка у них в руках. Надо добыть и Ивашку.
И вот они снова, уже в третий раз, еще более безобразною толпою валят к Кремлю. День ясный, теплый, даже жаркий. И стрельцы, большинство, прут к Кремлю в одних рубахах, но вооруженные бердышами и копьями. Набатный звон и барабанный бой снова оглашают Москву. Стрельцы уже шибко разыгрались: они почти все пьяные. Они — владыки Москвы, и все, что есть в Москве, все склоняется перед ними, не исключая и винных погребов. Кирша уже идет не один, а с собакою: за ним бежит его кудлатая Турка и неистово лает на Данилку-дохтура.
— Эй, Турка, ты на «верху» не бывала, так вот побываешь, псина эдакая! — хвастался пьяненький Кирша, заломив шапку и расстегнув ворот рубахи.
— Что ж, и пес осудареву службу нести должон, — поддакивали другие стрельцы.
— И точно, мы все холопы осударевы, и псы с нами, и вся животина.
«Дохтур» шел совершенно убитый. Старые лаптишки на ногах расползлись, и пораненные о камни ступни оставляли кровавые следы на мостовой.
С трудом он поднялся на Красное крыльцо, но на верхней ступени ноги ему изменили, и он опустился, чтоб передохнуть. Он невольно глянул на расстилавшуюся под ним за Кремлевскими стенами широкую панораму Москвы. Она была величественна, такою, по крайней мере, показалась она ему, когда много лет назад он в первый раз поднимался по этой лестнице во дворец московских царей и обернулся, чтобы взглянуть на столицу неведомого для него какого-то волшебного восточного царства. Тогда все казалось ему волшебным здесь. Он вступал тогда в этот волшебный чертог лейб-медиком царей гиперборейской державы. Какая честь для молодого мечтательного лекаря!.. Но теперь эта самая Москва показалась ему ужасною, и его сердце невольно сжалось, точно молнией капризная память прорезала далекое, далекое прошлое… Он, молодой студент болонского университета, стоит на вершине падающей башни Гаризенда, и перед ним расстилаются роскошные картины Италии, и холмы Аппенинов, и дивная южная зелень, а молодое воображение развертывает перед ним, словно сатана перед очами Христа на горе искушения, все царства мира и славу их…
И вот она, слава, в этих рубищах! Вон куда завело его неугомонное воображение, жажда неиспытанных ощущений!..
Он беспомощно зарыдал.
— Вставай! Не пора ноне с тобой проклажаться! — раздался над ним грубый голос, и сильная рука подняла его за шиворот и поставила на ноги.
Но в это время в дверях показались царица Марфа Матвеевна и царевны. Стрельцы сняли шапки. Царица узнала несчастного доктора.