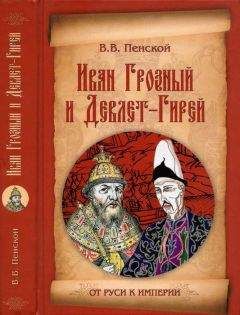Но в это время в дверях показались царица Марфа Матвеевна и царевны. Стрельцы сняли шапки. Царица узнала несчастного доктора.
— Вот он, матушка-царица, изводчик государев, — сказал Цыклер, показывая на фон Гадена.
— Он не изводил блаженной памяти государя Феодора Алексеевича, — заметила царица.
— Так коея ради вины, государыня, он с Москвы бежал? — возразил Цыклер.
— Страха ради.
— Нету, государыня, коли бы у него совесть была чиста, он не таился бы.
— Перед Богом и перед покойным государем нету его вины: царь Федор Божиим изволением, а не отравою скончал дни живота своего, — настаивала царица.
— А нам, государыня, доподлинно ведомо, что он, дохтур, извел великого государя снадобьями.
— Стрельцы, не гневите Бога! — строго сказала царица. — Даниил на моих очах отведывал все лекарства… Я не отходила от одра моего мужа.
— Воля твоя, государыня, а без розыску такого великого дела оставить нельзя, — со своей стороны настаивал Цыклер, — что он с расспросу покажет, и по тем его расспросным речам суд будет.
Царица должна была покориться воле стрельцов. Она увидела себя бессильною отстоять жизнь невинной жертвы еще и потому, что в этот момент явилось новое обстоятельство, отягчавшее участь обвиняемого. К Красному крыльцу нахлынула свежая волна стрельцов, которые торжественно несли что-то на копьях и неистово кричали:
— Он чернокнижник! Он с нечистым водится!
— У него сушеные змеи! Вот он кто такой!
— Всякие змеи и аспиды сушеные в его доме! Чего же еще больше!
И стрельцы показывали вздернутые на копья чучела серых и черных змей.
— Это мы у него нашли, у дохтура!
— Сушеными змеями он царя извел, змеиными печенками…
— Да у него же, у Данилки, мы нашли Адамову голову.
— И двух мертвецов, стоят у него воместо образов…
Каких же еще было доказательств!.. Действительно, в доме дохтура, на Кукуе, нашли стрельцы несколько чучел змей, костяк человеческого черепа и два скелета.
— В застенок его! — кричала толпа. — На дыбу!
— Под кнутом да на виске он все скажет!
И несчастного повели в Константиновский застенок. Там дали ему несколько ударов.
— Все скажу, о-ох! — взмолился пытаемый.
— Ну, сказывай, а ты, Обросим, записывай пыточные речи: ты грамотный, — говорил Цыклер. — Пиши: Лета 7190 маия в 17–й день иноземец — немчина-дохтур в Константиновском застенке в расспросе с пыток винился, и те его расспросные речи таковы… Записал?
— Погоди малость… А вы еще всыпьте ему, пока я записываю…
— Нету, братцы, кнута ему вдосталь… на дыбу почище было бы…
— Знамо почище, кости расправить… не хуже бани…
— И веника, братцы, не надоть..
Несчастного кладут на дыбу. Он только стонет…
— Записывай, Обросим, — распоряжается Цыклер, — был-де Данилка дохтуром у великого государя Феодора Алексеевича и будучи дохтуром великого государя лечил всякими неподобными способы…
— О-о! — послышался стон с дыбы. — Пустите… дайте сроку… три дня… я укажу злодеев…
— Нелюбо! Долго ждать! — послышались голоса.
— Пиши дале: и отравного-де зелья великому государю давал…
— Жилы — те! Жилы ему вытяни поболе…
— Суставы ломай!
Пытаемый потерял сознание. Он уже больше не стонал даже.
— Что с ним возжаться! Сымай с дыбы! — решили стрельцы.
— Клади на рогожу, понесем на Красную площадь.
— Чего же еще! Злодей повинился.
Бесчувственный труп взвалили на рогожу и поволокли на Красную площадь. Там ждали его толпы любознательных москвичей, преимущественно из Охотного ряда.
— Али околел немчин? — любопытствовали охотнорядцы.
— Околел… собаке собачья и смерть… Смерть грешников люта…
— И точно… Змей, слышь, сушил поганец, змеиной печенкой царя извел…
— А жаль, не домучили… Ой-ой-ой! С нами крестная сила!..
Мертвый открыл глаза. Все отшатнулись от него. Послышался слабый стон.
— О, mein Gott, mein Gott!.. О, mein Liebes Geburts Land!
— Слышь, братцы, по-собачьи залопотал…
— Кончай его, а то оживет еретик…
— Не оживет… Вот ему осиновый кол… н-на! Н-на!
— Шибче! Шибче! Ногами дрыгнул аспид… буркалы выпялил…
— Н-на — же! Н-на! Н-на!
И осиновый кол пробил насквозь несчастного. Он так и остался с открытыми глазами.
Дико торжественно было возвращение стрельцов во дворец. Теперь остается им совершить еще один подвиг, найти и казнить Ивашку Нарышкина, и тогда они со спокойной совестью скажут, что сослужили службу московскому государству, не жалеючи животов своих.
Во дворце, между тем, продолжал царствовать ужас. Уносили трупы Гутменша и сына фон Гадена, Михаэля, за которым шла потерявшая рассудок мать и просила, чтоб его несли легче, чтоб не разбудили его…
Когда толпы стрельцов вновь показались у Красного крыльца, царевна Софья поспешила на половину царицы Натальи.
— Опять пришли за Иваном, — сказала она резко.
Царица молчала. Она, казалось, хотела что-то сказать, но голос не слушался ее.
— Брату твоему не отбыть от стрельцов, — повторила Софья, — или нам всем погибнуть за него?
Бывший тут старик князь Одоевский упал перед царицей на колени.
— Матушка! Спаси себя и нас! Вели Ивану выйти, — умолял он.
Находившийся тут же юный царь сильно побледнел, но не сказал ни слова и, презрительно поглядев на жалкого старика, молча вышел.
— Поди, приведи Ивана, — сказала царица Одоевскому.
— Матушка! Я не ведаю, где он.
— Приведи, — сказала Наталья Кирилловна постельнице Клушиной.
Та вышла. Через несколько минут явился Иван Нарышкин. Куда девался его юношеский румянец, блеск глаз, гордая осанка!
Царица бросилась ему на шею и заплакала.
— Иванушка! Родной мой! Братец мой любимый! Надо идти… идти…
Он молча обнимал сестру. Софья стояла бледная.
— Идем, Иванушка.
Она пошла в церковь Спаса за золотою решеткою. За нею шел брат, царевна Софья и старик Одоевский. В церкви духовник царицы стоял на коленях и молился.
— Батюшка, напутствуй брата, — сказала царица духовнику.
Старый духовник подвел молодого боярина к аналою, накрыл ему голову епитрахилью и стал тихонько исповедывать. Недолга была исповедь. Царица, царевна Софья и Одоевский стояли на коленях и молились. Со двора доносился шум, говор и выкрики стрельцов…
— И се народ мног со оружием и дрекольми, яко на разбойника, — тихо, как бы про себя проговорил священник, вынося дары из алтаря.
Нарышкин стал на колени. Началось причащение.
— Еще верую, яко ты еси Сын Бога живого…
— Не яко Иуда, но яко разбойник, — смутно звучали в пустой церкви причастные слова.
Царица рыдала, припав головой к холодным плитам церковного помоста.
Причащение кончилось. Священник приступил к соборованию.
Между тем царевна Софья Алексеевна сняла с иконостаса образ Богоматери и передала его царице.
— Возьми, матушка, передай Заступницу брату Ивану: может, злодеи устрашатся сея святыни и не тронут Иванушку.
Началось страшное прощание сестры с любимым братом. Картина была потрясающая по своему глухому сдержанному драматизму. Извне доносились все более и более усиливающиеся крики. Под самыми церковными окнами слышалось за душу рвущее пение юродивого:
Плачу и рыда-а-аю, егда помышля-а-аю смерть…
Глухие рыдания действительно стояли в церкви… А юродивый снова заводил:
Житейское мо-о-оре воздвизаемое зря напастей бу-у-урею…
Старик Одоевский не выносит этого ужаса…
— Матушка-государыня! Сколько тебе ни жалеть брата, а все уж отдать приведется…
Его не слушают… Не вытолкать же брата на мученическую смерть!
— Иванушка! Светик мой! О-о-ох!
На дворе буря голосов все растет… Юродивый с ужасающею реальностью передает своим старческим голосом картину отпевания покойника:
— Иван! Иванушко! — умоляющим голосом шепчет Одоевский. — Иди, иди же скорее… не погибать же нам всем из-за тебя!
Прощание кончилось. Сестра сама вывела брата из церкви и подвела к золотой решетке. Осужденный держал впереди образ. За решеткой уже ждали стрельцы.
Воздух огласился неистовыми криками и ужасающими ругательствами. Отвратительные, самые гнусные слова сыпались из пьяных глоток. Казалось, весь воздух заражен был хульной, омерзительной бранью и заразным дыханием пьяного стада…
— А! За волосы его!.. Толки мордой о земь!
— Волоки его за гриву, в застенок, на дыбу! На виску!..
Трехэтажные, четырехэтажные глаголы потрясают воздух… Несчастного буквально волокут за волосы через весь Кремль, «толкут мордой о камень», «пинают ногами», дают пощечины…