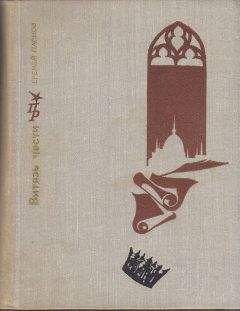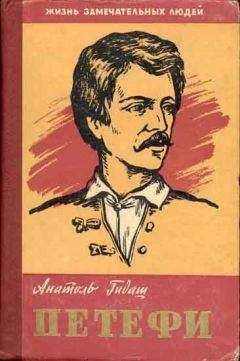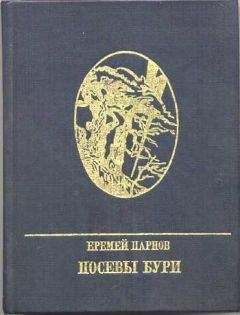— На Дворцовую набережную, — подозвал ямщика, запахивая пелерину. — Но только не шибко, пожалуйста, — добавил и, сунув под мышку трость, вскочил на подножку. — Дом австрийского посла знаешь? — поинтересовался, проезжая по залитой предзакатным огнем Миллионной.
— Кто же его не знает? — отозвался ямщик, прихлопнув ладонью двурогую шапку. — Эх, нечистая сила! Н-но, залетныя!
Бирюзовый особняк с алебастровой лепниной на фронтоне, выходящий парадным подъездом на Дворцовую набережную, слыл в Санкт-Петербурге таинственным. Самое название его — австрийский, или, как выговаривала окрестная дворня, «анстрихский», созвучное с Антихристом, внушало суеверный страх. Недаром в табельные дни, когда брыластый, вечно хмурый швейцар появлялся на улице укрепить на флагштоке желтое полотнище с черным и чуждым каким-то двуглавым орлом, старушки, часто осеняли себя крестным знамением, а соседский, принцев Ольденбургских, кучер так откровенно плевался:
— Аки сера адская! Тьфу на них, пакость…
Ветеран Аустерлица, смолоду невзлюбивший цесарцев и их черно-желтый штандарт, пускал витиеватую матерщину и, дыша деликатным букетом хозяйских винных погребов, презрительно отворачивался, замирая на козлах.
Несмотря на экстерриториальность, дом, построенный прославленным Джакомо Кваренги, осенял герб Салтыковых с княжеской короной над трофеем щита. И вообще почти ничего не изменилось во внешнем облике дворца и окружающей его перспективе. Разве что деревья на Марсовом поле стали повыше, да на эполетах парадирующей лейб-гвардии монограмма АI давно сменилась на HI. Всего лишь одна литера, а уже другая эпоха, новое поколение, совсем иной дух.
А для глаза дворец был куда как хорош. Открытый балкон с гранитными балясинами и узорной решеткой каслинского литья глядел на Неву, расцвеченную по случаю жаркого, безмятежного лета пестрыми флажками парусников и дымящих высокотрубных пироскафов. Прямо над входом приветливо скалилась львиная морда с кольцом в улыбчивой пасти и весело играли отраженным многоцветьем чистые, разделенные на восемь частей окна. На набережную дом выходил четырьмя этажами, на Марсово поле — тремя, а параллельно дворцу Ольденбургских крыло было всего о двух. Для карет и колясок на узкой мостовой места обычно недоставало, потому со стороны Невы прямо к дому подкатывали лишь особы высокого, порой высочайшего ранга, а все прочие въезжали в ворота и, обогнув двор, останавливались у подъезда. Высадив господ, кучера незамедлительно сворачивали на Марсово поле, где и ожидали, кто в приятной беседе, кто в сонной одури, разъезда. И никому, кроме бдительного урядника, отмечавшего, на всякий случай, незнакомых визитеров, не было в них нужды. В летнюю пору кучера разогревались водкой, а зимой в добавление жгли костры, бросавшие зловещие отсветы на окна личного кабинета его превосходительства посла союзной державы.
Вот, собственно, и все касательно особенностей дворца. Остальное — порождение слухов, ибо дома, как и люди, бывают отмечены неизгладимой печатью молвы. Глухие стены, винтовые лестницы и скрипучие половицы словно впитывают в себя шепот, мельканье огней, звон хрусталя или звон оружия, чтобы на века сохранить таинственную эманацию, которой до скончания лет питаются тени. Впрочем, тени — вздор, хоть и кинулась просвещенная Европа в упоительный до жути омут столоверчения. Повторялась, но уже как фарс, как пустое недомогание после серьезного недуга, лихорадочная одурь, овладевшая миром в канун великой революции…
Поразительные пророчества, вещие стуки и прочие явления медиумизма — это было уже не для серьезных умов. Сороковые годы девятнадцатого века ознаменовались триумфом разума, бесповоротно сбросившего последние путы феодальных предрассудков. Железнодорожные рельсы и телеграфные провода, побеждая пространство и время, обещали, того и гляди, связать народы и племена в единую семью. Дымящие пароходы бросали вызов океанским течениям и ветрам, а посеребренная пластинка Дагера, запечатлев преходящий облик, остановила — подумать страшно! — в никуда утекающий миг. Вооружившись съемочной камерой, какой-то смельчак взлетел на монгольфьере над аспидными крышами Парижа и, присвоив себе прерогативы бога-отца, явил изумленной публике застывшее мгновение быстротекущей жизни великого города. Это ли не триумф разума! Взлет гения, пред коим молчаливо отступила пристыженная природа.
И все же, чем ярче свет, тем кромешнее убежище мрака. Неизжитое, смущающее дух ночное сознание отступило в сумрак галерей, секретных переходов, уединенных кабинетов с резными пюпитрами для пожелтевших фолиантов. Пыланье стеариновых свечей в золоченых шандалах, кенкетах и бра, хмельные вихри мазурок и вальсов не отняли вещей памяти у старых, все видевших стен. Так сохраняет потемневший флакон, сколько ни отмывай, властный аромат давным-давно высохших эссенций, и мимолетное веяние их пробуждает воспоминания. О чем, однако? Память памяти рознь. Есть память о бывшем, а есть и о мнимом, навеянном больше злоязычием и пустой болтовней. Бирюзовому дворцу в этом отношении повезло. Своей таинственной славой он был обязан случайному выбору гения. Быть может, капризу.
Едва представил на суд читателя «Пиковую даму» Александр Пушкин, как в обществе стали усиленно искать прототипов. Нащокин, которому читал повесть сам автор, где-то проговорился, будто старая графиня — не кто иная, как Наталья Петровна Голицына, мать Дмитрия Владимировича, московского генерал-губернатора. Внук ее якобы поведал Александру Сергеевичу о том, как проигрался однажды крупно и бросился к бабке на поклон, но вместо денег получил три верные карты, назначенные ей в Париже де Сен-Жерменом. Так это или не так — многие узнавали в старухе не Голицыну, а Загряжскую, — но в дневнике Пушкина есть весьма характерная запись: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза».
Не удивительно, что при подобном умонастроении легенда пустила цепкие корни и ныне, спустя почти десять лет после трагической смерти поэта, обрела зримые приметы были.
К ним стали с некоторых пор причислять и дом Салтыковых, который еще в двадцатых годах арендовало для себя посольство его апостольского величества Франца, предшественника нынешнего Фердинанда Первого. Расположение покоев, лестницы, переходы в посольском дворце разительно напоминали описанное в «Пиковой даме». Повторяя на раутах начало пути несчастного Германна, гости посла вновь и вновь убеждались в том, что, по крайней мере, сам Пушкин не раз взбегал по мраморным этим ступеням и стремительно пересекал узнаваемую анфиладу парадных комнат.
Да и не мудрено. С Дарьей Федоровной, женой тогдашнего австрийского посла Фикельмона, поэта связывали узы нежнейшей дружбы. Недаром все еще прекрасная Долли, пережившая и великого друга, и свой судьбоносный расцвет, продолжала, уже вдали от России, хранить благодарную память о родном Петербурге, о приключениях, всегда неожиданных, очаровательных, милых.
Нынешней посольше, будь она не заурядной дурнушкой, а даже красавицей, вроде Долли, и в страшном сне не могло бы привидеться, что русский государь, запахнув плащ, проскользнет с внутреннего подъезда прямо в ее амарантовый кабинет. А вот поди, в прежнее царствование подобная escapade[26] была возможна. Александр Павлович хаживал к генерал-майорше Хитрово, матушке Долли, и часами засиживался в милом ему семействе. И письма писал нежные, и цветы посылал.
Но бог с ним, со всем прежним. Канули в Лету глухие пересуды о загадочном исчезновении государя-победоносца, забылась и молва о галантных проказах Дарьи Федоровны Фикельмон. А ведь и нынешняя государыня, тогда молодая, проказливая, инкогнито проникала в покои Долли, чтобы, торопливо переодевшись в бальное платье и сорвав полумаску, скользнуть, замирая от тайного наслаждения, в вереницу галопа или какого-нибудь там попурри, навстречу удивленному Николаю.
Ах, что было, то забылось, быльем поросло. Иных друзей Дарьи Федоровны уж нет, а те далече: кто в сибирских острогах, а кто добывает хлеб свой в поте лица своего на чужбине.
Сам Шарль-Луи, или Карл-Людвиг на немецкий лад, граф Фикельмон пребывает в настоящий момент в Риме, святом граде, где собрался конклав кардиналов для выбора нового наместника господа бога на грешной земле. Несмотря на чин фельдмаршал-лейтенанта, старый граф не очень продвинулся в карьере. Помешало неистребимое русофильство и аристократический либерализм. Канцлер Меттерних, хоть и доверил ему однажды замещать себя на время болезни, недолюбливает Фикельмона. А коли так, прощай мечты о канцлерской орленой портфели, а вместо блестящего, первого в мире двора — возвращение на круги своя. Опять кровоточащая, разорванная на куски Италия, интриги, иезуиты, карбонарии, коварство и лицемерие англичан. Добро бы хоть настоящее дело, а то так, второстепенные дипломатические поручения, изматывающие поездки, приевшиеся споры, дебри ватиканской политики.