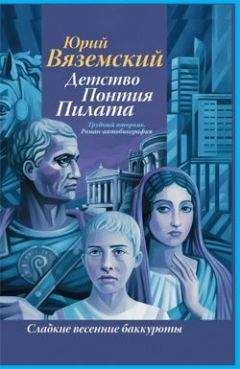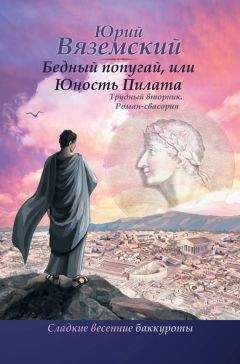На следующий день Юлия вновь безрезультатно прождала в приемной. А Август сначала долго беседовал с Гаем Антистием и Децимом Лелием, будущими консулами, а затем с несколькими провинциальными наместниками, вызванными в Рим для отчета.
Юлия больше не пыталась поговорить с отцом, но двум его помощникам, вольноотпущенникам Ликину и Келаду заявила, что если отец захочет встретиться со своей дочерью, то пусть ее вызовут.
Не вызвали.
А в пятый день до июньских ид в Риме справляли Весталии. Юлия была в многочисленной свите, которая окружала ее отца — верховного главу беспорочных весталок. И тут Август во время вознесения молитвы сам подошел к дочери и в присутствии множества людей громко и отчетливо произнес:
«В мире много грязи и зависти. И столько желающих очернить добродетельных, чистых испачкать. Нам, Юлиям, надо быть особенно бдительным, особенно чистоплотным, чтобы не давать нашим врагам ни малейшего повода нас злословить. Надеюсь, ты это сама хорошо понимаешь. Но сегодня такой день. И я, великий понтифик, считаю своим долгом тебе об этом напомнить».
Юлия, как мне рассказывали, — сам я, понятное дело, был далеко от августейшего семейства, — Юлия слушала отца, радостно, чуть ли не с восхищением глядя ему в глаза. А когда он кончил свое напутствие, хотела что-то сказать, но Август приложил палец к губам и прошептал:
«Не будем мешать песнопениям. Я уже сказал всё, что хотел. Главное, чтобы ты услышала».
И отошел к Ливии, обнял ее за плечи и поднял голову к небесам, закрыв глаза и прислушиваясь к гимну, который воспевал хор весталок.
А вечером Фабий Максим устроил званый обед по случаю возвращения из Африки Луция Пассиена Руфа, своего друга и соратника, сына знаменитого оратора Гая Саллюстия Пассиена Криспа. Феникс был туда приглашен, и я — вместе с ним, ибо Фабий, не только выдающийся по своим ораторским и государственным способностям, но также очень чуткий и внимательный человек, знал, что мы с Пелигном неразлучны и радуемся, когда нас вместе зовут.
Обед, как и всегда у Фабия, прошел вкусно, весело и остроумно. Так что даже Феникс, в последнее время мрачновато-задумчивый, ближе к десерту оживился и сам вызвался — никто его к этому не понуждал — прочесть одну из своих застольных элегий, выдав ее, правда, за малоизвестную оду Катулла.
И вот, когда гости стали уже расходиться — мы уходили последними, так как хозяин дома нас всё время удерживал, — Фабий, провожая нас к выходу, в прихожей посоветовал Фениксу: «Ты сейчас сразу иди домой и постарайся хорошенько выспаться».
Феникс удивился такому совету и спросил:
«А что, я выгляжу пьяным? Но я сегодня почти ничего не пил». «Я видел, — улыбнулся Максим. — Да я бы и не дал тебе много пить».
«Почему?» — в один голос спросили мы с Фениксом. «Потому что завтра у нашего друга будет очень ответственный день», — обращаясь ко мне, ответил Фабий.
«Завтра? У меня? Ответственный?!» — еще сильнее удивился Феникс. А Фабий Максим положил ему руку на плечо и сообщил так коротко и просто, как желают спокойной ночи:
«Завтра в пять часов тебя ждет у себя Август».
Мы онемели от этой новости. Я первым оправился от изумления И спросил:
«Ты шутишь?»
Фабий, до этого улыбчивый, сурово на меня глянул и ответил: «Такими вещами не шутят. За час до полудня. В Белом доме. Ни в коем случае не опаздывать».
Тут и Феникс, наконец, обрел дар речи и, вцепившись в Максима — он буквально обеими руками вцепился ему в тунику, словно потерял равновесие и боялся упасть, — вцепившись в Фабия Максима, Феникс принялся осыпать его быстрыми вопросами: мол, откуда Фабию известно? по какому поводу? о чем пойдет речь? Максим же некоторое время молчал и пытался оторвать от своей туники руки Феникса. А когда ему это удалось, с виноватым видом ответил:
«Меня попросили передать. Я передал. И больше ничего не могу тебе сообщить».
Тут Фабий принялся дружески, но настойчиво выталкивать Феникса за порог. А когда мы уже были на улице, вдруг вышел следом за нами и, подойдя к Фениксу, шепнул ему на ухо, но так, что и я расслышал:
«Только не ври ему. Ему врать бесполезно. О чем бы ни спросил, говори правду».
Хорошенько выспаться! Легко сказать!.. Мы до утра не сомкнули глаз в римском доме Феникса и обсуждали неожиданное приглашение, рассматривали различные варианты, пытались предусмотреть возможные вопросы, заранее подготовить приемлемые ответы… Помню, что под утро, вконец истощенный этим умственным напряжением, я рассердился и воскликнул:
«А что ты так нервничаешь?! Ты что, кого-нибудь ограбил или убил?»
Феникс удивленно на меня посмотрел и ответил:
«При чем здесь это? Он — ее отец».
Это «ее отец» меня еще больше раззадорило. «Да! Отец! — продолжал восклицать я. — Но чем, скажи на милость, ты перед ним провинился?! С тех пор как она замужем за Тиберием, ты пальцем к ней не притронулся! Что бы там про тебя ни болтали — Капитон или кто там наушничает? — ты ведь знаешь, что ты невиновен. Ты чист и перед ее мужем, и перед ее отцом! А то, что было много лет назад, когда она еще не была замужем…»
Феникс прервал мои восклицания, наклонившись ко мне и шепнув на ухо:
«Не кричи, Тутик. Повторяю: он — ее отец. И, значит, через несколько часов мне предстоит встреча… с богом… Как тут можно не волноваться?»
Так и сказал — «встреча с богом».
Гней Эдий снова подмигнул мне, но продолжал серьезно и, как мне показалось, с грустью в голосе:
VII. — Я с Августом никогда не беседовал, но много раз наблюдал его со стороны. Более того, я всегда им интересовался и всех, кто с ним лично общался, старался расспросить об их впечатлении. Самых разных людей: и тех, которые боготворили его, и тех, которые его боялись и не любили. По крайней мере, с некоторых пор я стал коллекционировать эти мнения о нашем великом принцепсе. И так тебе скажу, мой юный друг: богом он пока, слава Юпитеру, не стал, хотя, принимая во внимание его преклонные года и заметное ухудшение здоровья… Нет, прочь грустные мысли!.. Я лишь хочу тебе объяснить, тебе, который никогда не видел этого человека и, боюсь, никогда не увидит его среди смертных людей — я хочу, чтобы ты знал, что он, пожалуй, с самого своего рождения был если не богом, то…как бы это точнее выразить? …более чем человеком и весьма непохожим на обычных людей, которые нас окружают и к числу которых мы сами принадлежим.
Вот, если угодно, мои наблюдения. Мне доводилось встречать нескольких действительно великих людей. К ним приближаясь, я всегда чувствовал их величие, потому что этим величием они были исполнены, они его излучали, они его нередко специально подчеркивали своими позами, жестами, своей манерой общения с людьми. А в Августе этого преднамеренного величия не было. Вместо него была некая естественная и обезоруживающая простота, за которой, однако, чем ближе ты эту простоту на себе ощущал, угадывалась, выступала и охватывала тебя некая тайна, возвышенная и, я бы сказал, неземная. И это простое и таинственное величие, в отличие от напыщенной земной величавости, не требовало ни поз, ни жестов, ни тона… Он, как мне рассказывали, голый и больной, лежащий в ванне, сохранял в себе эту тайну, к которой неловко и боязно было приблизиться… Простой и естественный, как солнце или как море, — так про него однажды выразился его лечащий врач, Антоний Муза.
Уважающий себя правитель должен быть труднодоступен для других людей. Для этого окружают себя ликторами, телохранителями, свитой и секретарями. Август тоже был ими часто окружен. Но чувствовалось, что они в нем нуждаются, а не он — в них; что для них он еще менее доступен, чем для прохожих на улице, для клиентов и просителей у него в прихожей, от которых они, его приближенные, его отделяют. Фабий Максим, который иногда позволял себе быть со мной откровенным, как-то признался, что он, Фабий, завидует простым людям, которые, чтобы попасть к Августу, должны пробиться через кордон толпящихся возле него людей или днями дожидаться в прихожей, потому как они, пробившись и дождавшись, чувствуют себя вправе к нему обратиться и заговорить с ним, а он, Максим, которому разрешено в любой момент войти к нему в кабинет, этого права в себе никогда не ощущает и, когда остается наедине с Августом, ему порой особенно кажется, что тот от него, как никогда, далек и для него недоступен. Иногда, говорил Фабий, возникает ощущение, что он будто окутан холодным воздухом, и воздух этот упирается тебе в грудь и тебя отталкивает, а он, Август, улыбается и кивает тебе из-за этого холода, которым он окружен.
Иль вот еще. У властных и величественных людей часто бывает особый пронзительный взгляд. Некоторые из них наделены им от природы, другие в себе специально вырабатывают. У Августа такого взгляда, как мне рассказывали, никогда не было. Когда он смотрел тебе прямо в глаза, взгляд его был очень внимательным, но мягким и как бы слегка виноватым, ибо он… нет, не пронизывал и не выворачивал тебя наизнанку, а будто еще до того, как взглянул на тебя, знал уже почти всё о тебе. И взглядом своим делал тебя еще более прозрачным. И сам ты ему открывался, перед ним распахивался… Однажды во время какого-то праздника он проходил мимо, и взгляд его, скользнув по мне, вдруг на мне задержался. И тотчас у меня возникло ощущение, что я стою перед ним совершенно голый и он читает мои мысли, рассматривает мои чувства, разглядывает мое прошлое и заглядывает в мое будущее, которого я сам не ведаю. И он словно услышал и понял мое смущение. И быстро отвел от меня взгляд. Но перед этим мягко и чуть виновато мне улыбнулся: мол, прости, случайно в тебя заглянул, больше не буду, живи себе в мире…