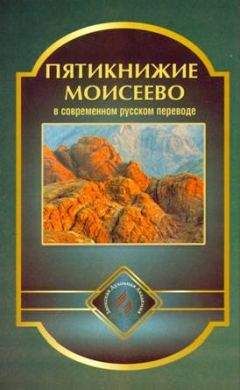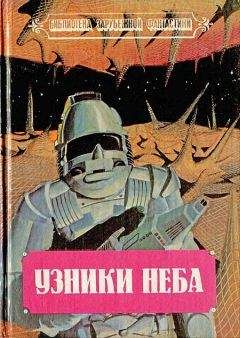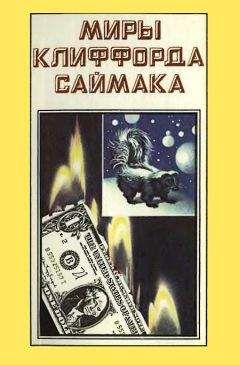я двигался по мощеной главной улице города. Был конец весны, из-за моросящего дождя рано опустились сумерки. По обеим сторонам улицы лавки уже закрывались, белым светом отливали собиравшиеся на зеленоватых плитках ручейки. Людей на улице практически не было, в тишине лишь шлепали по воде носильщики. Даже мне, сидевшему в паланкине, было зябко: в душе разливалась легкая печаль. Поодаль от улицы в пруду звонко квакали лягушки. Вспомнилась родная земля, волнующаяся пшеница в полях и резвившиеся в воде головастики, от этого к печали добавилась грусть. Мне тут же захотелось попросить носильщиков ускорить шаг, чтобы побыстрее вернуться в управу, заварить свежего чаю, полистать книгу древних стихов. Но, к сожалению, рядом со мной не было ни аромата, ни красных рукавов нежной женщины. Жена моя – из знатного рода, ведет себя порядочно, но в женских делах холодна как лед. Я уже поклялся ей, что не буду совершать что-либо опрометчивое, но мне и впрямь была нестерпима холодная постель… В этот момент, когда на душе было особенно пасмурно, я услышал, как скрипнули ворота у дороги, и, подняв голову, увидел высоко висящую над землей вывеску винной лавки. В темноте из дома доносились ароматы вина и мяса. Стоявшая у ворот молодая женщина в белой блузке звонко бранилась. Через воздух вылетело что-то черное и ударилось прямо в мой паланкин. Я услышал, как женщина выругалась:
– Чтоб ты сдохла, обжора!
Я увидел, как под карниз дома на противоположной стороне улицы стрелой прошмыгнула кошка, облизала усы и стала смотреть через дорогу. Шедший перед паланкином выездной лакей громко крикнул:
– Ишь разошлась! Ослепла, что ли? Смеешь кидаться в паланкин начальника?
Женщина поспешно стала кланяться, и ее извинительные речи были слаще меда. Раздвинув занавески и увидев ее, я ощутил полную гамму разгорающейся страсти. В сумерках ее застенчивость поблескивала невыразимым светом. Душу мою заполонили нежные чувства, и я спросил у лакея:
– А чем торгуют в этой лавке?
– Докладываю, начальник: это заведение – первое в уезде по продаже собачатины и желтого вина, а эта женщина – Сунь Мэйнян, «собачатинная Си Ши».
– Опустите паланкин, – велел я. – У меня живот свело от голода, замерз весь, выпью здесь вина, чтобы согреться.
Лю Пу стал вполголоса увещевать меня:
– Барин, пословица гласит, что не следует человеку благородному по подлым местам ходить, лучше не стоит удостаивать эту придорожную харчевню своим посещением. По мнению недостойного, вам бы побыстрее вернуться в управу, дабы супруга дома не беспокоилась.
– Даже государь император – десять тысяч лет ему – не брезгует тайно посещать людные места, чтобы разузнать, как живет простой народ, – заявил я, – а я – обыкновенный уездный, благородным меня не назовешь, подумаешь, смочу горло чашкой вина да утолю голод плошкой мяса!
Паланкин встал у ворот лавки, Сунь Мэйнян спешно опустилась на колени. Выйдя из паланкина, я услышал ее слова:
– Простите, господин начальник, простолюдинка достойна смерти. Эта кошка-обжора стащила кусок свежего мяса, вот простолюдинка и расстроилась, по ошибке попала в ваш паланкин, прошу вашего прощения…
Я протянул руку:
– Ошибка по незнанию не преступление, барышня. Такой пустяк я вообще не принимаю близко к сердцу. Я вышел из паланкина, потому что хочу поесть мяса и выпить вина в твоей лавке, прошу проводить меня в ваше заведение.
Встав, Сунь Мэйнян вновь согнулась в поклоне:
– Премного благодарна, начальник, за великодушие! Сегодня утром как раз сороки трещали перед нашими воротами, вот уж думать не думала, что это связано с вашим приездом [148]. Прошу вас, заходите, и господа, что с вами, пусть тоже заходят. – Сунь Мэйнян выбежала на середину улицы, подобрала свежую рыбу, которой запустила в мой паланкин, и не глядя бросила кошке со словами: – Держи, обжора, ты привела мне уважаемого человека, вот тебе награда от хозяйки.
Сунь Мэйнян шустро разожгла светильник и свечу и до блеска вытерла столы и стулья. Она подогрела мне кувшин прекрасного вина, поставила на стол большое блюдо собачатины. В свете свечей красавица казалась еще красивее, в душе моей весенние воды подернулись зеленой рябью. Мерцавшие блуждающими огнями глаза управских стражников напоминали мне о том, что не стоило пренебрегать долгом и нравственностью. Надо преодолеть скачущие мысли, сесть в паланкин и трогаться в обратный путь… Но образ Мэйнян уже врезался в память…
Гром барабанов и гонгов, разношерстное мяуканье и пение стаей белых птиц взмыли в воздух. Простолюдины из города сначала по два, по три с опаской пробирались по краю плаца, потом народ стал подходить к помосту целыми группами. Люди словно забыли, что совсем недавно здесь была проведена самая жестокая в Поднебесной казнь, они будто забыли, что на помосте мучался подвергшийся этой казни человек, в тело которого до сих пор был вбит колышек из сандалового дерева. На помосте разыгрывали любовную историю, в которой живущий на постоялом дворе военный заигрывает с работающей там прелестной барышней. Досмотрев до этого места, я немного успокоился, потому что слова, касающиеся выступления Сунь Бина против немцев, уже были пропеты, и, если бы даже появился его превосходительство Юань и стал слушать, ничего страшного не случилось бы.
– Эй, военный, скажите, какого вы вина желаете?
– Хочу испить душистого красного вина [149] из только что распечатанного чана.
– А у нас такого нет…
– Ты, барышня, и есть это душистое вино…
– Какого мяса поесть желаете, господин военный?
– Феникса с небес принесите попробовать!
– Нет у нас феникса!
– Ты и сама – золотой феникс…
На сцене изящная служительница постоялого двора строила военному глазки, вызывая всеобщее томление. С каждым вопросом и ответом любовники будто бы сбрасывали с себя одежду. Это была вставная любовная сценка, беззаботная и живая, такие эпизоды особо нравятся молодежи. У меня же уже седели виски, я вступил в средний возраст. Неужели теперь мне стали чужды любовные чувства? Наблюдая за артистами, я вспомнил, как в западном флигеле управы Мэйнян из семьи Сунь пела мне такие же арии…
Ах, Мэйнян, Мэйнян, сколько раз я терял от тебя рассудок… Твое обнаженное тело, белое, как фарфор… Маленькая кошачья накидка на голове… Ты кувыркалась на моей постели, забиралась на меня и скатывалась с меня… Проведешь у себя перед лицом рукой, и передо мной тотчас же являлась миленькая кошечка… По телодвижениям любимой я осознал, что из всех зверей в мире кошка – самая ласковая… Высовываешь ты красный язычок, облизываешь меня им, и я умираю от блаженства. В сердце