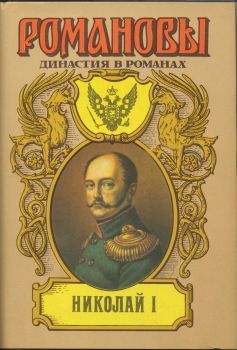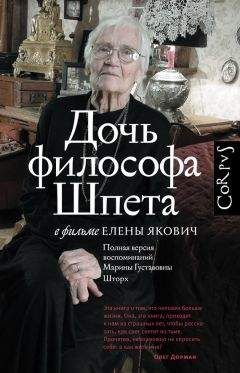Дважды заходил сухонький комендант крепости Набоков, улучшил пищу, увеличил порции, разрешил сигары. Хитрый пёс посмеивался, уходя из покоя номер 5: «Многие мил-голубчики становились тут шёлковыми!»
Светло в покое номер 5. Волнуясь, Бакунин курил без счёту, отхлёбывал с лимоном чай. То казалось, доступ в сердце Николая приоткрывается, то мучили сомнения. «Лучше смерть, каторга, Сибирь, палочные удары, лишь бы не в каземате сойти с ума. Эх, воля, воля!» – уронил волосатую голову на руки, на рукопись и долго так сидел Бакунин. «Пусть разрешат сестре Татьяне иль брату Павлу приехать, через них свяжусь, дам им понять, как хлопотать и действовать».Поднявшись, шумно ходил по каземату, мысли бурны, мучительны, невыносимы. И снова расправил лист, записал почерком, не вязавшимся с мощной, большой рукой:
«Таким образом, окончилась жизнь моя, пустая, бесполезная и преступная; и мне остаётся только благодарить Бога, что он остановил меня ещё вовремя на широкой дороге ко всем преступлениям. Исповедь моя кончена, ГОСУДАРЬ! Она облегчила мою душу. Я старался сложить в неё все грехи и не позабыть ничего существенного; если ж что позабыл, так не нарочно. Всё же, что в показаниях, обвинениях, доносах против меня будет противно мною здесь сказанному, решительно ложно, или ошибочно, или клеветливо. Теперь же обращаюсь к своему ГОСУДАРЮ и, припадая к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, молю ВАС: – ГОСУДАРЬ! Я преступник великий и не заслуживающий помилования! Я это знаю, и если б мне была суждена смертная казнь, я принял бы её как наказание достойное, принял бы почти с радостью, она избавила бы меня от существования несносного и нестерпимого. Но граф Орлов сказал мне от ИМЕНИ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, что смертная казнь не существует в России. Молю же ВАС, ГОСУДАРЬ! Если по законам возможно и если просьба преступника может тронуть сердце ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЬ, не велите мне гнить в вечном крепостном заключении! Не наказывайте меня за немецкие грехи немецким наказанием. Пусть каторжная работа самая тяжкая будет моим жребием, я приму её с благодарностью, как милость; чем тяжелее работа, тем легче я в ней позабудусь! В уединённом же заключении всё помнишь и помнишь без пользы; и мысль и память становится невыразимым мучением и живёт долго, живёт против воли и, никогда не умирая, всякий день умирает в бездействии и в тоске. Нигде не было мне так хорошо, ни в крепости Кенигштейн, ни в Австрии, как здесь, в Петропавловской крепости, и дай Бог всякому свободному человеку найти такого доброго, такого человеколюбивого начальника, какого я нашёл здесь, к своему величайшему счастью! И несмотря на то, если б мне дали выбрать, мне кажется, что я вечному заключению в крепости предпочёл бы не только смерть, но даже телесное наказание.
Другая же просьба, ГОСУДАРЬ! Позвольте мне один и в последний раз увидеться и проститься с семейством; если не со всем, то по крайней мере с старым отцом, с матерью и с одной любимой сестрой, про которую я даже не знаю жива ли она?
Окажите мне сии две величайшие милости, ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ ГОСУДАРЬ! И я благословлю провидение, освободившее меня из рук немцев, для того, чтоб предать меня в отеческие руки ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.»
Бакунин перечитал, оторвался, как кончить, подписать, не знал. Густые, характерно разлетевшиеся над голубыми глазами брови сдвинуты, глаза задумчивы, изломаны, темны. Не тот уж красавец скиф Бакунин, изъездили, истомили, надорвали трёхлетние казематы. Поймав наконец желаемое, Бакунин подписал:
«Потеряв право называть себя верноподданным ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, подписываюсь от искреннего сердца
кающийся грешник
Михаил Бакунин.»
Ефрейтор Алексей Ерошин, каллиграф-писарь Третьего отделения, с «Исповеди» списывал две красивых копии. Одну для фельдмаршала князя Паскевича, другую для графа Орлова. Оригинал Бакунина в четыре часа пополудни повёз государю в Зимний дворец сам шеф жандармов.
Николай был занят, принимал посла в Турции Меншикова в присутствии военного министра князя Чернышёва и вице-канцлера Нессельроде. Обсуждался вопрос отношений с Турцией и в случае надобности занятия Константинополя. Орлов прошёл в Петровский зал, говорил с императрицей о пустом, вспоминали, как в Царском в старинных доспехах на эспланаде Александровского дворца царь, царица, 16 дам и 16 рыцарей исполнили кадриль с эволюциями.
Только отпустив Нессельроде с Меншиковым, Николай вышел к Орлову, ласково потрепал графа по крутой, жирной лопатке даже обнял, смеясь, проговорил:
– Нет Фёдорыч, турку с англичанкой не поддадимся, нет!
Но зная, с чем приехал Орлов, сказал:
– Пройдём ко мне.
Откланявшись императрице, Орлов пошёл за быстро идущим императором по переходам, гостиным, залам, лестницам. У стола с разноцветными фигурками солдат Орлов вынул из потёртого портфеля рукопись в четыреста страниц.
Николай улыбнулся туманно.
– Много понаписал. А как, ты читал? Садись.
– Читал, государь, – Орлов, в светло-голубом, перетянутом серебряным шарфом мундире, опустил тучное тело в сафьяновое кресло, – и скажу, Ваше Величество, произвело на меня писанное впечатление тягостное. – Орлов крутил толстыми пальцами, оборвал, замолчал, как бы задумываясь. – Раз уж заговорило, Ваше Величество, самолюбие, то ни ум, ни способности не в состоянии удержать от самых беспорядочных и преступных увлечений воображения. Нахожу полное сходство с показаниями печальной памяти казнённого Пестеля.
Николай почернел мгновенно, самого имени полковника Пестеля, назвавшего царя в лицо сыном выблядка, не мог слышать.
– В чём? – сказал односложно.
– Да то же, Ваше Величество, самодовольное перечисление всех воззрений, враждебных всякому общественному порядку, тщеславное описание самых преступных и вместе с тем самых тёмных планов и проектов, но ни тени серьёзного возврата к принципам верноподданного.
Ледяные глаза царя дрогнули, как бы усмехнулись.
- Что ж, обмануть меня, стало быть, хочет?
– Раскаяния, приличествующего его положению, не замечаю в «Исповеди», государь, – произнёс Орлов, – а что смел он и ловок, отнять нельзя, только смелости этой даёт ложное применение.
Николай взглянул на первый лист: «Ваше Императорское Величество! Всемилостивейший государь!»
– Ну, иди, – сказал туго, – почитаю.
Николай сидел у блестящего длинного стола карельской берёзы; под стеклом стояли крашеные восковые фигурки солдат, лежали аккуратно, в папках, доклады Орлова о польских происках и доклады вице-канцлера Нессельроде об антирусских интригах Англии. Подперев рыже-седой висок белым кулаком, Николай читал «Исповедь».
В первый раз разжался белый кулак у виска, когда прочёл: «Молю вас, государь, не требуйте от меня, чтоб я вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои». Из золочёного бокала Николай взял карандаш, черкнул на поле: «Этим уже уничтожает всякое доверие; ежели он чувствует всю тяжесть своих грехов, то одна полная исповедь, а не условная, может почесться исповедью».
Сумерки падали, плыли, поплыли над Петербургом; окутали, скрыли шпиль Петропавловской крепости. Посерела окованная гранитом Нева. В бельэтаже, на Неву, кабинет царя оставался тёмен. Николай не замечал павших на его город сумерек. Потом зажёг десятисвечный канделябр, принёс, поставил на стол и сел, вытянув ноги, расстегнув мундир, блеснув ластиком.
«В Западной Европе, куда ни обернёшься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат, происходящий от безверия», – Николай черкнул на поле: «Разительная истина!»
«Видел я иногда русских, приезжавших в Париж. Но молю вас, государь, не требуйте от меня имён». – Николай поставил «NB». И тут же против слов: «раскаяние в моём положении столь же бесполезно, как и раскаяние грешника после смерти – я буду просто рассказывать факты и не утаю, не умалю ни одного», – написал гневно, с сердцем. «Неправда! Всякого грешника раскаяние, но чистосердечное, может спасти!»
Обгорали, отекли, таяли десять свечей золочёного канделябра. Плыла ночь над миром, над Петербургом. Бакунин ворочался, кашлял, крякал, с ольмюцкой камеры начались кровеприливы, разламывающие череп головные боли. Словно потоком бросалась кровь в голову и грудь, так, что поднимался на нарах, задыхаясь, Бакунин. В ушах шум кипящей воды и отвратительно-невыносимые геморроидальные боли.
Царская койка стояла давно откинутой, прикрыта военной шинелью. В летящем ветре с Невы дворец был слепым, красивейшим в ночи камнем. Стёкла кабинета императора отливали отблеском канделябров на Неву. Николай сидел, захваченный «Исповедью».