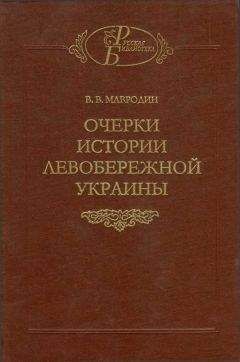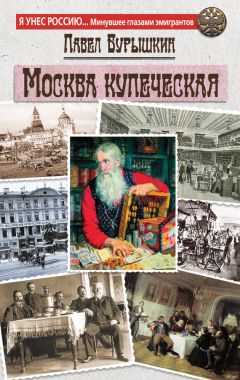Верный соглядатай Баташевых сразу напал на след. Один из работных, живших на дощатом заводе, показал, что в ту ночь с субботы на воскресенье ни попа, ни сыновей дома не было.
— Сам видел, как в лодку садились, куда-то вниз направились.
«Не иначе, как для отвода глаз недалеко отъехали, а сами сюда — черное дело вершить», — подумал Карпуха.
Когда Сорока с сыновьями вернулся домой, Никифоров уже ждал его.
— Куда ездил?
— В Муром.
— Пошто?
— В собор, к службе. Панихиду соборную по попадье справлял. Молодой еще померла от хвори.
— Не врешь?
— Сам соври!
— Жил где?
— У пономаря соборного.
— Кто подтвердить может?
— А зачем?
— Спрашиваю — значит, надо.
Сорока сделал вид, что задумался.
— Заприметил я в соборе одно лицо знакомое. Старший приказчик купцов Панфиловых. Ну, а узнал ли он меня, не ручаюсь.
— Ладно. Вдругорядь поедешь, ставь господ в известность.
— Это зачем? Я им не крепостной.
— Раз к делу приставлен, обязан.
— У самого голова на плечах есть. Я званьем повыше твоих господ буду.
— Не возносись, поп.
— Ты пониже ходи!
Хлопнув в злости дверью, Карпуха ушел. Доложив о разговоре с попом Ивану Родионовичу, он тем же днем отправился в Муром. Но поездка ничего не дала ему. Соборный пономарь подтвердил, что Сорока с сыновьями действительно приезжал служить панихиду по попадье. Приплыли-де они в лодке вечером. Пока жили, никуда не отлучались. И панфиловский приказчик засвидетельствовал, что видел Сороку в соборе.
Выслушав доклад Никифорова, Иван Родионович сказал:
— Не пойман — не вор. Больше не тревожьте попа. А стороной приглядывайте.
Карпуха понимающе кивнул головой.
— Будет сделано все в точности.
Рощину не спалось. До начала смены было еще далеко, а он уже встал. Поплескался над лоханью, набросил на плечи зипун, вышел на улицу. В воздухе стояла прозрачная тишина, изредка прерывавшаяся чуть слышным потрескиванием: днем с крыш летела капель, но по утрам мороз еще стучал по стенам, напоминая о себе.
На дальнем конце поселка мигнул огонек, за ним загорелся другой, третий. Где-то стукнула калитка, проскрипели по снегу торопливые шаги, брякнуло ведро о заледеневший сруб колодца. Над крышами домов потянулись легкие дымки. Временами меж туч проглядывала луна, и тогда косые тени лиловатыми пятнами ложились на землю.
«Пойду, пожалуй, на завод», — решил Василий. Войдя в избу, отрезал ломоть от лежавшего на столе каравая, круто посолил и вместе с парой луковиц завернул в тряпицу.
На улице было еще пустынно. Окна домов тускло мерцали огоньками из-под нависших кровель — словно глаза из-под седых бровей.
«Неохота людям вставать в такую рань, — подумал Рощин. — Да и то сказать: попляшешь у горна двенадцать-то часов, поворочаешь чугунные чушки — намаешься так, что ночи для отдыха и не хватит».
За думами незаметно подошел к заводу. Высокий худощавый старик, служивший рунтом у проходных ворот, остановил Рощина.
— Погодь, парень. Посиди погрейся. Велено весь народ в кучу сбить.
— Чего для?
— Про то не ведаю. Сказано — исполняю.
Один за другим подходили к заводу работные. Задерживаемые рунтами, они толпились у ворот, поругивали Мотрю, давшего такое распоряжение. Когда рассвело, ворота распахнулись. За ними стояли люди, окончившие ночную упряжку.
— Чего, беси, домой не идете, аль приключилось что?
— Вас дожидались. Не видим — душа мрет, встретимся — с души прет.
— А что, всамделе, за оказия?
— Мы почем знаем!
— Зря булгачить не станут.
На крыльце заводской конторы показался Мотря, за ним в полном облачении и с крестом стоял заводской священник.
— Молебен никак отзвонить хотят.
— Тише, слушай!
Священник дрожащей рукой поднял крест. Люди умолкли. Смотритель вынул из-за обшлага бумагу и начал читать. То был царский манифест о победе русских войск под Кунерсдорфом.
Шесть лет назад царица Елизавета Петровна, ненавидевшая прусского короля Фридриха, дала согласие австрийской императрице Марии Терезии поддержать ее домогательства, помочь вернуть назад потерянную в войнах Силезию. Затянувшаяся на долгие годы кампания теперь, похоже, подходила к концу.
Война с Пруссией была на руку Баташевым. Когда она началась, обнаружилось, что русская армия не подготовилась к ней: не хватало припасов, оружия, снаряжения. Состоявший при Елизавете Военный совет спешно стал изыскивать возможности пополнения воинских запасов. Баташевы получали один за другим заказы для войска. Видя, что существующие заводы с ними не справятся, они построили еще один, верстах в двух от первого, вниз по течению Выксуни. Без большого труда исхлопотан был высочайший Указ, разрешавший использовать для работы на новом заводе государственных крестьян Нижегородской и Владимирской губерний.
Обучали новых работных опытные мастеровые, привезенные на Выксунь с Унженского и Гусевского заводов. Свычные к ковке и литью металла, они быстро пустили в ход плющильные и сверлильные станы. Скоро первая партия мортир и пушек была готова. Их испробовали в лесу за заводом и, погрузив на струги, отправили водой в Москву.
День и ночь шумели молотовые фабрики. Здесь налажено было новое для Выксуни дело: ковали булаты. Сюда перевели Ваську Рощина и Митьку Коршунова. Обоим дали по горну, поставив подручными новичков.
Друзья жили теперь каждый в своем доме, поблизости друг от друга. С окончанием сооружения Нижнего завода всех, кого перевели сюда работать, заставили поселиться рядом с заводом. Иван Родионович, по мысли которого было это сделано, велел ставить избы не вразброс, а линейно, подобно тому, как стоят серые громады домов в Питере на Невской аль Литейной перспективе. И в соседи велено было подбирать не кого попало, а кто с кем работает. На перенос зданий с верхнего поселка давались подводы. Кто строился заново, — рубил лес на месте. Работали «помочью» — подсобляли один другому.
Перенеся с помощью Рощина и других молотовых мастеров свою избу и переселив мать, вошедший в азарт Митька предложил дружку:
— Давай заодно и тебе избу построим!
— На кой она мне?
— Не все по людям ходить, надо и свой угол иметь.
Подумав, Васька согласился. Так и у него появилась своя хата на небольшой улочке к северу от заводских ворот. Селились тут те, что заняты были на ковке булатов, и потому прозвали улицу «булатной».
Когда приглашенный новоселами поп закончил водосвятие, Лука в сопровождении Павла Ястребова обошел Васькино владение, осмотрел, как сложена печь, попробовал, крепко ли сидит мох в пазах, потом лукаво подмигнул Павлу и сказал:
— Плохо твое дело, Василий. Нельзя в избе жить.
— Это почему? — оторопел тот.
— Домового нету.
— У всех есть, а у меня нет?
— А у тебя нет. Он бобыльего духа не любит.
— Что ж делать-то?
— Будто не знаешь? Женись скорей, вот домовой и явится.
Васька с Павлом рассмеялись.
— Ишь, дедка хитрый какой. Женюсь, теперь уж скоро. На троицын день.
— Ну ин ладно…
Новое дело вначале трудно давалось Рощину. Потом он приловчился и стал работать лучше тех, кто давно уже занимался ковкой булатов. Любо было поглядеть, как из железной полосы, сваренной особым способом, выходит острый булатный клинок. Озаряемый пламенем горна, Васька ударял по раскаленному добела металлу так, что искры сыпались дождем.
— Хорошо робишь, молодец! — услышал он однажды.
Рядом с наковальней стоял одетый в рабочее платье старший Баташев.
— А ну, какова твоя работа?
Андрей Родионович взял наугад один из лежавших в стороне готовых клинков и сильно взмахнул им. Булат со свистом разрезал воздух.
Вынув из кармана аккуратно сложенный батистовый платочек, Баташев развернул его и, скомкав, подбросил вверх. Подхваченный струей теплого воздуха платок расправился, и на миг показалось, будто неведомая птица, распустив крылья, парит над головами. Дождавшись, пока платок опустился на уровень головы, Андрей Родионович наотмашь рубанул по нему. Рассеченный надвое платочек упал на землю.
— Хороши булаты ладишь! — еще раз похвалил Баташев. — А ну-ка, дай я попробую! В молодости стаивал у наковальни, не из последних был. Давай ручник.
Снова зазвенела наковальня. По звону Васька слышал: не так бьет хозяин. Хотел было сказать, да смолчал. Пусть сам свою работу опробует.
Окончив ковать, Баташев удовлетворенно посмотрел на клинок и спросил Ваську:
— Ну как, не хуже твоего будет?
— Лучину щепать годится.
— Что?
— Плох твой клинок. Таким не токмо немцу — курице голову не отрубишь.
Рассерженно сопя, Андрей Родионович молча поднял с земли половинку платка и снова подбросил ее в воздух. Удар был сильным, но платок лишь перегнулся пополам, обвив лезвие сабли.