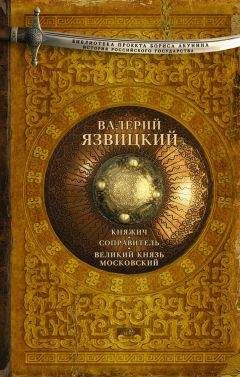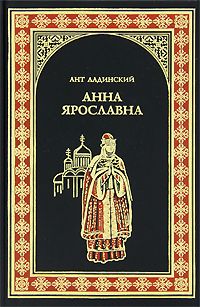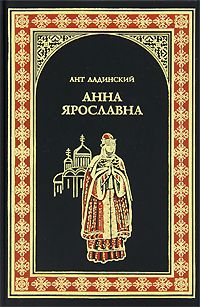Ознакомительная версия.
– Земно кланяюсь, княже, – сказал чернец, касаясь рукой пола трапезной, – аз есмь раб Божий Поликарп, из Троице-Сергиева монастыря. Отец Христофор челом тобе бьет. Был у него из Москвы Старков и много доброго для тобя сказывал. Есть-де на Москве и бояре, и гости, и из духовных многие, особливо из Чудова монастыря, всё твои доброхоты…
Монах долго и подробно рассказывал, и Шемяка, прервав его, пригласил за стол. Отец Поликарп с жадностью пил и ел, как и все чернецы, когда пьют и едят в миру.
– Что же Старков-то деет? – спросил Димитрий Юрьевич, испытующе глядя на монаха. – И куда ваш игумен Геннадий клонит?
– Отец Геннадий неведомо что на уме имеет, но ежели все в твоих руцех будет, сможешь его ублажить и на волю свою поставить, ибо его преподобие зело об обители печется, о приумножении ее прибытков.
– Добре, добре, – скрывая презрительную улыбку, промолвил Шемяка, – а пока, значит, яз Москву не захватил, он помогать не будет?
– Господине, мы и без него тобе поможем против Василья, а Иван Старков и содруженики его уже все съединились крепко в граде и многие от слобод из Заречья, особенно из гостей и купцов, окупа великого страшатся…
Отец Поликарп опрокинул чарку с боярской водкой и, нисколько не пьянея от всего выпитого за столом, добавил вполголоса:
– Иван-то Старков сказывал, что и ворота тобе кремлевские может отворить, ежели с нечаянностью к Москве придешь. Было бы лишь ведомо ему о том и твое изволение…
Шемяка остался доволен и, встав из-за стола, весело сказал боярину Никите:
– Весьма добрая сия весть! Ты, Никита Костянтиныч, уважь гостя дорогого. Меня же, отче, прости, отдохнуть иду. Расскажи тут боярину все, как на духу, как бы мне все едино.
Выходя вместе с Федором Александровичем, Шемяка через спину чернеца подмигнул Добрынскому, чтобы тот допросил гонца с хитростью, проверил бы его слова его же словами. Ловок был боярин на это. Добрынский понял и, вставая почтительно, сказал с улыбкой:
– Отдыхай, государь, спокойно. Завтра, как уедет Бегич, на беседу приду к тобе. Есть у меня еще вести и умыслы многие…
Гадают оба князя в плену татарском о судьбе своей, словно в лесу темном бродят. Нет им и от царевича Касима никакой помощи – сам он ничего не ведает. Вот и до Покрова уж всего пять дней осталось. Идет время, а дела к пользе их ни на черту, ни на йоту не двинулись.
Темно на душе, да и погодка хмурая. Время такое, что ни колеса, ни полоза не любит. Куда ни глянь, грязь кругом, и ступить негде. Беспутье, не дай бог какое, – только верхом и ездить, да и то трудно. Дожди то с крупой, то с мокрым снегом, мгла да туманы. От сырости да ветров кости в теле все ноют, а где там в шатрах согреешься – с дымом и тепло все из них выходит. Недовольны и татарские воины – трудно им здесь в Курмыше стоять, хотят к себе поскорей, в Казань, а царь все медлит, посла своего ждет. Бегича же нет как нет, и даже вестей о нем нет. Истомились князья, а Василий Васильевич пал духом совсем.
– Ошибся тогда Ачисан-то с делами татарскими. Старая-то голова, верно, крепче молодой шеи, – сказал он как-то Михаилу Андреевичу, – может, Шемяка-то не токмо с Бегичем, а и со всем своим войском сюда идет…
– Не дай господи, – всполошился Михаил Андреевич и с горечью добавил: – Выдаст царь-то, закует нас Шемяка в железы…
– Наказует нас Бог, – прошептал Василий Васильевич, – прогневили мы святых угодников, заступников наших.
Замолкли оба, кутаясь в бараньи тулупы от холодного ветра, который рвал дверную кошму, шумел и свистел в соседнем бору. Трещали, ломаясь, там сучья, с глухим стоном опрокидывались высокие ели и сосны на опушке, а вывороченные корни их торчали, как застывшие змеи.
С самой ночи и все утро бушевала непогода, а к полудню словно оборвался и сразу стих ветер, а сквозь темные тучи засияло солнышко, дрожа и играя на мокрых ветвях и в лужах. Повеселел вдруг день, и на сердце князей веселей стало, а когда нежданно приехал со своими нукерами царевич Касим и привез «селям» от самого царя Улу-Махмета, Василий Васильевич в радости обнял и поцеловал татарского царевича, а видя это, засмеялся и Михаил Андреевич.
– Отец, – говорил Касим по-татарски, – захотел тебя видеть. Он назвал тебя не братом, а сыном, но ты не принимай это за обиду. Такой мой совет тебе. Отец стар, зови его отцом не за старшинство по власти, а по возрасту.
– А зачем я царю? Ведь послал он Бегича к Шемяке…
– Сам знаешь, князь, – перебил царевич, – нет у нас вестей о Бегиче.
Слухи только разные, а хан Мангутек через карачиев,[47] детей Минь-Булата, свой слух до царя довел. Шемяка-де, узнав о плене твоем, бил челом в Золотой Орде брату отца, царю Кичиму, а в Литве Свидригайле, и что из Орды посол раньше Бегича в Галич приехал.
Василий Васильевич перекрестился и, обращаясь к Михаилу Андреевичу, не разумевшему по-татарски, воскликнул:
– Внял Господь Бог молитвам нашим, княже! Зовет Улу-Махмет меня. Милует Господь нас, грешных…
– Отец наш одряхлел. Недаром дядя из Орды его выгнал, – продолжал Касим по-татарски, – не может править он ни царством, ни войском, а к старости весьма жаден стал. Мангутек прельстил его твоим окупом, и сам царь теперь говорит, что убил Шемяка посла его в угоду ордынцам! Так вот, соглашайся на все, не пропусти случая. Может, Бегич и жив и скоро вернется…
Когда вышли они из шатра и садились на коней, Касим сказал великому князю вполголоса:
– Смотри не обмолвись, что про все ты знаешь. Говори только о союзе с Казанью против Золотой Орды да об окупе и кормленьях.
Вскочив на коней, поехали они по вязкой красной глине вдоль берега Курмышки, к ее устью у реки Суры, где град Курмыш стоит. Еще в досельные времена нижегородский князь из крепкого дуба сложил его здесь, меж двух рек, в защиту от набегов язычников из дикой мордвы и черемисы. Не только реки, но и болота, холмы да овраги обороняют тут крепость со всех сторон, а дальше, за лугами поемными да пашней, леса идут сплошные, дремучие. Ни прохода, ни проезда по ним нет. Жадно дышит Василий Васильевич влагой от реки и духом лесным. Осеннее солнышко хоть и не греет, а все кругом золотит и светлит, и сверху синь небесная ласково сквозь тучи проглядывает. С берез листья золотые роями летят, осинки стоят все багровые, дрожат их листья, словно кровью обрызганы, а в затихшем бору синицы кричат да сороки стрекочут.
Осень настоящая, а Василию Васильевичу словно соловьи поют. Улыбнулся он весело, сделал знак царевичу и придержал своего коня. Подъехал Касим, приветливо тоже глядит на великого князя.
– Слушай, – говорит Василий Васильевич по-татарски, – чую сердцем – буду опять на Москве. Тебя же, Касим, полюбил я и хочу к себе на службу! Братом меньшим моим ты будешь…
Засиял царевич и дрогнувшим голосом ответил:
– Помни клятву мою. Как позовешь, так и поеду. Весь я на воле твоей, и Якуб о том же челом тебе бьет…
Войдя в горницу, великий князь и царевич Касим поклонились царю до земли и сказали селям. Улу-Махмет, окруженный карачиями, биками и мурзами[48] в это время, полулежа на персидском ковре, играл в шахматы с биком Едигеем, начальником своих уланов. Он благосклонно приветствовал великого князя и, продолжая игру, знаком пригласил сесть.
– Подождем, князь, – сказал Касим по-татарски, посмотрев на шахматную доску, – они скоро кончат.
Василий Васильевич впервые видел шахматы и с любопытством разглядывал людей, колесницы, коней и слонов, белых и красных, вырезанных из кости.
– Это два войска, – пояснил ему игру царевич Касим, – с двумя царями. В игре их «шахами» зовут. Вон они оба сидят на столах своих в коронах. Один белый, другой красный, и того же цвету вои и воеводы их. Они бьются друг с другом.
Василий Васильевич увидел на доске одну белую колесницу и две красных. В каждой из них стояло по одному воину с копьем и щитом того же цвета, что и колесницы их.
– Это, – сказал Касим, – воевода в игре, они «рук»[49] называются. Всего четыре их, одного белого нет на доске, значит – убит он. Эти же конники – темники царей. Из них один красный убит.
– А это что за звери, – спросил Василий Васильевич, – горбатые, головастые, а ноги, как бревна? Вишь, клыки торчат какие, а нос кишкой повис?
– Слоны, – продолжал царевич, – боевые звери с кожей такой толстой, что ни стрелой, ни копьем не пробьешь, ни мечом не прорубишь. На спине у них башни привязаны, там стрелки сидят.
В это время Улу-Махмет передвинул свою красную колесницу и сказал громко:
– Шах!
– Это он нападенье на самого царя сделал, – пояснял Касим. – Теперь бик Едигей должен своего царя спасать. Вот он белого слона около него поставил, закрыл его от красного «рука». Только не поможет это – скоро его царю ступить будет некуда…
Ознакомительная версия.