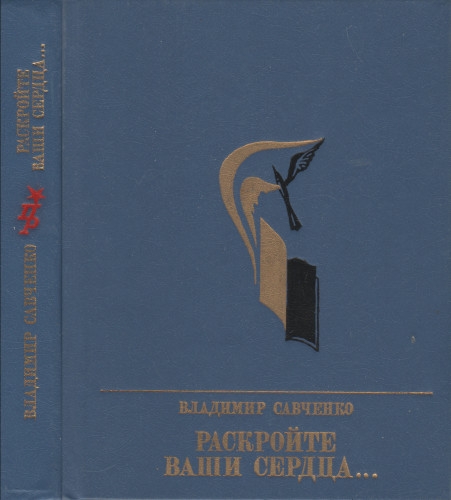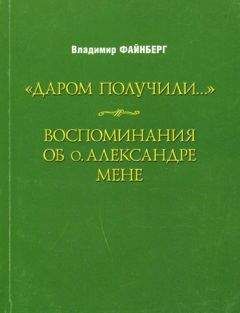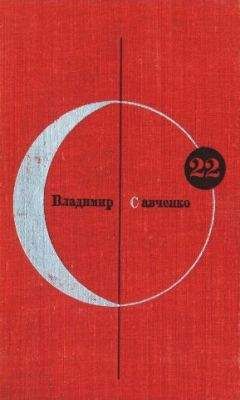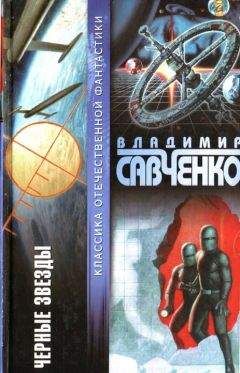Ну и жизнь, конечно. Натура и жизнь. Беда, когда человек недостаточной доходит до крайности, когда у его ничего нет, внутре он пустеет, бог его лишает разумения. Я по себе знаю, тоже горели, ходили с сумой по дорогам, ох тяжко это, не приведи господи. Но иной несет свою беду как крест, а иной как медаль, энто Чернай. А бог с им, Чернаем. Ты о равенстве складно говорил. Сказка то или умные люди обдумали и есть уж где такой порядок, чтоб все работали на себя, а не на богатых?
— Это не сказка. Такого порядка еще нигде нет, но он возможен. И были уже попытки ввести его в жизнь. Только не у нас, а за границей, во Франции. Два года назад в Париже рабочие взяли власть в свои руки и организовали коммуну. Два месяца держались.
— Рабочие, говоришь? Какие же рабочие? Мужики, примерно, али городские?
— Городские рабочие, пролетарии.
— Голь, значит? — с иронией сказал старшо́й, поднимаясь, давая понять всем, что перерыв кончился.
Все засмеялись. Посмеялся и Долгушин. Сказал добродушно:
— Вы зря смеетесь. Вот погодите, скоро я вам принесу одну брошюрку, там про все написано: и о нынешней жизни, и о том, как ее сделать лучше.
— Что за брошюрка?
— А вот принесу — увидите. Грамотные есть ли среди вас, чтоб прочесть?
— Эвон Митроха у нас грамотный — прочтет.
— Прочту! — радостно пообещал Митроха, неожиданно оказавшийся в центре общего внимания.
Озадачил Долгушина этот разговор с плотниками. С одной стороны, как будто бы и неплохо все получилось: разговорил-таки мужиков, добрался до их заветного, выношенного, и себя слушать заставил будто бы с неравнодушным ожиданием ответа на их вопросы. Приди он теперь к ним с прокламацией, пожалуй, она произвела бы на них должное впечатление. Что ж, начало пропаганде, можно считать, положено. Но это с одной стороны. А с другой — этот странный пассаж старшого о голытьбе, деревенском пролетариате.
По новейшим теориям социальной революции именно обездоленный люд, неимущие, городской и сельский пролетарии были надеждой и опорой, главной силой ожидавшейся всемирной подлинно народной революции, предвестницей которой была Парижская коммуна. В городе это были фабричные и заводские рабочие, главным образом заводские, в отличие от фабричных, вполне оторвавшиеся от деревни, в деревне же, тогдашней быстро расслаивавшейся общинной, даром что общинной деревне, — батраки и всякий обезземеленный элемент, перебивавшийся случайными заработками, этот люд был ничем и призван был стать всем, как говорилось в песне Эжена Потье. И вдруг — такое резкое суждение о нем! Что же, считать таких, как старшо́й и его товарищи по артели, не революционным элементом? Обращаться со словом пропаганды к голытьбе и обходить стороной «самостоятельных», как эти плотники, хозяев? Но ведь это значит обходить стороной подавляющую массу крестьянской бедноты! Обездоленные, подобные Чернаю, пока еще, слава богу, не составляют большинства в среде народа, община, худо ли бедно, пока удерживает от пролетаризации миллионы крестьян. А кроме того, плотник сегодня «самостоятельной», а завтра, случись что, — и сам голяк голяком, и это очень вероятная перспектива для него, к тому все идет в стране. Стало быть?..
Или, может быть, есть в словах плотника какая-то правда и не все так просто, как кажется, с чернаями — будущими спасителями человечества? Может быть, и не всякий отчаявшийся бедняк — готовый революционер, как не всякий революционер — образец гражданской доблести и нравственной чистоты, о плутах и мошенниках от революции еще Чернышевский предупреждал, и недавняя история Нечаева убедительно подтвердила его прозрения. Стало быть?..
Вопросов возникало множество, ясно же было только, что следовало посмотреть на этого Черная, прежде чем делать какие-либо выводы. Решил попросить старшо́го, чтоб свез его к Чернаю, чтоб вместе побеседовали с этим голяком, показалось, что была бы небезынтересна такая общая беседа. Но все как-то не удавалось заговорить об этом со старши́м, вплоть до самого последнего дня работы плотников на пустоши так и не удалось об этом поговорить. Да как-то и не складывались уж больше такие откровенные беседы с плотниками, иные заботы стали отвлекать. Но вопрос о Чернае не забылся, сидел в душе гвоздем, нужно было лишь дождаться удобного случая, чтоб заговорить об этом снова.
Иными заботами были прежде всего земледельческие заботы, с приездом Анания Васильева занялись-таки землей, еще не поздно было посеять овес, вспахали под него две полосы. Нелегко дались эти полоски, лошадь, охотно заходившая в оглобли тележки, почему-то никак не могла привыкнуть к сохе, топталась в борозде, закусывала удила, Ананию приходилось водить ее в поводу, Долгушин шагал за сохой. Не мог привыкнуть к сохе и сам пахарь, хотя и по-барски пахал, да все поджилки дрожали к концу рабочего дня, мозоли натер на руках в первый же день, обертывал ладони тряпицами, так и выходил в поле с тряпками на руках. Однако ж посеялись.
И еще занялся экономическим обследованием быта сареевских крестьян. Хотелось самому выяенить, точно знать, из чего складывается бюджет крестьянской семьи, в чем же источник бедности крестьянина, в самом ли деле все упирается в непомерность выкунных и иных платежей и недостаток земли?
Для обследования выбрал двор лошадного крестьянина Ефима Антонова, во всех отношениях средний, как решил Долгушин, обойдя все сареевекие дворы, да и сами крестьяне называли Ефима, когда Долгушин просил указать характерный крестьянский двор. Выбрал этот двор еще и потому, что хозяин, по виду добродушный увалень, на деле ловкий и расторопный работник, и его жена, под стать ему рослая, ухватистая, с открытым добродушным же характером, известные в деревне, помимо всего прочего, тем, что вовсе никогда не пили никакого вина, охотно и толково и с полной откровенностью называли свои доходы и расходы, им нечего было таить перед односельцами, стыдиться нечего, — важное обстоятельство для целей Долгушина.
Было у Антоновых четверо детей, да только старший двенадцатилетний паренек, год назад отданный в учение по стекольному делу, выходил теперь в «добышники», начал понемногу зарабатывать от хозяина, отрабатывая долг за учение (за три года учения — семьдесят рублей), остальные, мал мала меньше, сидели на шее родителей. В надежде «дождаться сыновей» — времени, когда они выйдут в работники, Ефим с женой не упускали доставшейся им по смерти отца Ефима землицы, владели наделом на две души, около пяти