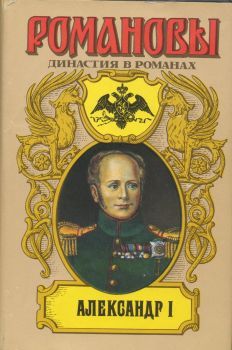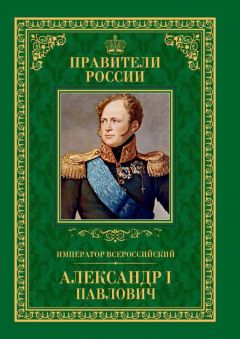Когда Саша, войдя в хату Андреевича, взглянул на лица заговорщиков, ему показалось, что все так же счастливы, как он. Хата прибрана, пол выметен, скамьи и стёкла на окнах вымыты; стол накрыт чистою белою скатертью; на столе не сальные, а восковые свечи в ярко вычищенных медных подсвечниках, старинное масонское Евангелие в переплёте малинового бархата и обнажённая шпага: когда-то Славяне клялись на шпаге и Евангелии; Андреевич не знал, как будет сегодня, и на всякий случай приготовил.
На майоре Спиридове был парадный мундир с орденами, а на секретаре Иванове – новый круглый тёмно-вишнёвый фрак с белым кисейным галстуком. От вербного херувима Бесчастного пахло бердичевским «Парижским ландышем». У Кузьмина волосы, по обыкновению, торчали копною, но видно было, что он их пытался пригладить. «Милая Настасьюшка, ёжик причёсанный!» – подумал Саша с нежностью.
Говорили вполголоса, как в церкви перед обеднею; двигались медленно и неловко-застенчиво, старались не смотреть друг другу в глаза; стыдились чего-то, не знали, что надо делать. И на лицах была тихая торжественность, как у детей в большие праздники. Черта, разделяющая два общества, сгладилась, как будто всех соединил какой-то новый заговор, более страшный и таинственный.
Все были в сборе. Только Артамон Захарович да капитан Пыхачёв не пришли. А полковник Тизенгаузен пришёл, но объявил, что клясться не будет.
– Никакой клятвы не нужно: если необходимо начать, я начну и без клятвы: в Евангелии сказано: не клянись вовсе…
Ему не возражали, а только попросили уйти.
– Я никому, господа, мешать не намерен. Сделайте одолжение…
Это значило: если вам угодно валять дураков – валяйте!
– Уходите, уходите! – повторил Сухинов тихо, но так решительно, что тот посмотрел на него с удивлением, хотел что-то сказать, но только пожал плечами, усмехнулся брезгливо, встал и вышел.
Сергей Муравьёв сидел, опустив голову на руку и закрыв глаза. Когда Тизенгаузен ушёл, он вдруг поднял голову и посмотрел на Голицына молча, как будто спрашивал: «Хорошо ли всё это?» – «Хорошо», – ответил Голицын, тоже молча, взглядом.
Бестужев что-то писал на листках, грыз ногти, хмурился, ерошил волосы: должно быть, к речи готовился.
– Ну что ж, господа, начинать пора? – сказал кто-то.
Бестужев перебрал листки свои в последний раз, встал и начал:
– Век славы военной с Наполеоном кончился; теперь настало время освобождения народов. И неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне отечественной, – русские, исторгшие Европу из-под ига Наполеонова, не свергнут собственного ига и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдёт о спасении отечества, счастливое преобразование коего…
«Не то, не то!» – чувствовал он и, не глядя на лица слушателей, знал, что и они это чувствуют. Стыдно, страшно: неужели Тизенгаузен прав?
Вдруг забыл, что хотел сказать, остановился и продолжал читать по бумажке:
– Взгляните на народ, как он угнетён; торговля упала, промышленности нет, бедность до того доходит, что нечем платить не только подати, но даже недоимки, войско ропщет. При сих обстоятельствах нетрудно было нашему Обществу прийти в состояние грозное и могущественное. Скоро восприимет оно свои действия, освободит Россию и быть может, целую Европу. Порывы всех народов удерживает русская армия; коль скоро она провозгласит свободу – все народы подымутся.
«Не то, не то!» Робел, глупел, проваливался, как плохой актёр на сцене или ученик на экзамене. Бросил бумажку, взмахнул руками, как утопающий, и воскликнул:
– На будущий год всему конец! Самовластье падёт, Россия избавится от рабства, и Бог нам поможет.
«Бог нам поможет», – сказал нечаянно, почти бессознательно, – но когда сказал, почувствовал, что это то самое.
– Бог нам поможет! Поможет Бог! – повторили все и сразу встали, как будто вдруг поняли, что надо делать.
И Бестужев понял. Расстегнул мундир и начал снимать с шеи образ. Руки его так тряслись, что он долго не мог справиться. Стоявший рядом секретарь Иванов помог ему.
Бестужев взглянул на тёмный лик в золотом окладе, лик Всех Скорбящих Матери. И вспомнилось ему лицо его старушки матери; вспомнилось, как она звала его к себе умирая. Что-то подступило к горлу его, и он долго не мог говорить, наконец произнёс:
– Клянусь… Господи, Господи… клянусь умереть за свободу.
Хотел ещё что-то сказать.
– Россия Матерь… Всех Скорбящих Матерь!.. – начал и не кончил, заплакал, перекрестился, поцеловал образ и передал его Иванову. Образ переходил из рук в руки, и все клялись.
Многие приготовили клятвы, но в последнюю минуту забыли их; так же, как Бестужев, начинали и не кончали, бормотали невнятно, косноязычно.
– Клянусь любить отечество паче всего!
– Клянусь вспомоществовать вам, друзья мои, от этой святой для меня минуты!
– Клянусь быть всегда добродетельным! – пролепетал Саша с рыданием.
– Клянусь, свобода или смерть! – сказал Кузьмин, и по лицу его видно было, что как он сказал, так и будет.
А когда очередь дошла до Борисова, что-то промелькнуло в лице его, что напомнило Голицыну разговор их в васильковской пасеке: «скажешь – и всё пропадёт». Не крестясь и не целуя образа, он передал его соседу, взял со стола обнажённую шпагу, поцеловал её и произнёс клятву Славян:
– Клянусь посвятить последний вздох свобода! Если же нарушу клятву, то оружие сие да обратится остриём в сердце моё!
– Сохрани, спаси, помилуй, Матерь Пречистая! – повторил Голицын слова умирающей Софьи.
– Да будет един Царь на небеси и на земли – Иисус Христос! – проговорил Сергей Муравьёв слова Катехизиса.
Клятвы смешивались с возгласами:
– Да здравствует конституция!
– Да здравствует республика!
– Да погибнет различие сословий!
– Да погибнет тиран!
И все эти возгласы кончались одним:
– Умереть, умереть за свободу!
– Зачем умирать? – воскликнул Бестужев, забыв, что только что сам клялся умереть. – Отечество всегда признательно: оно щедро награждает верных сынов своих. Вы ещё молоды; наградою вашею будет не смерть, а счастье и слава…
– Не надо! Не надо!
– Говоря о наградах, вы оскорбляете нас!
– Не для наград, не для славы хотим освободить Россию.
– Сражаться до последней капли крови – вот наша награда!
И обнимались, целовались, плакали.
– Скоро будем счастливы! Скоро будем счастливы! – бредил Саша.
Такая радость была в душе Голицына, как будто всё уже исполнилось – исполнилось пророчество:
– Да будет один Царь на земле и на неба – Иисус Христос.
– Будет вам шиш под нос! – воскликнул о. протопоп, накладывая себе на тарелку кусок кулебяки с вязигою.
– Не слушайте его, господа: он всегда, как лишнее выпьет, в меланхолии бывает, – возразил полицеймейстер, отставной гусар Абсентов.
– Врёшь, – продолжал о. протопоп, – меланхолии я не подвержен, а от водки пророческий дух в себе имею и всё могу предсказывать. Вот помяните слово моё: будет вам шиш под нос!
– Заладила сорока Якова… что это, право, отец Алексий? Даже обидно: мы самого лучшего надеемся, а вы нам шиш под нос, – вступился хозяин, городничий Дунаев.
Жена его была именинница. На именинную кулебяку собрались таганрогские чиновники и толковали о предстоящих наградах, по случаю приезда государева.
– За здравие его императорского величества! – провозгласил хозяин, вставая, торжественно.
– Ура! Ура!
Пили сантуринское, пили цимлянское и так нагрузились, что городничий затянул было свою любимую песенку:
Тщетны Россам все препоны,
Храбрость есть побед залог… —
и свёл нечаянно на «барыню-сударыню». Тут гости окружили хозяина, подняли его на руки и стали качать. А о. протопоп, несмотря на почтенную наружность и белую бороду, собрался плясать, уже поднял рясу, но споткнулся, упал на колени к полицеймейстеру и стал целовать его с нежностью.
– Васенька, а Васенька, почему тебя Абсентовым звать? Absens по-латыни речётся отсутствующий: у нас-де в городе столь нарочитый порядок, что полицеймейстер якобы отсутствующий, так что ли, а?..
Но язык у него заплёлся; он обвёл всех мутным взором и воскликнул опять с таким зловещим видом, что стало жутко:
– А всё-таки будет вам шиш под нос!
«Почтеннейший братец, – писал в эти дни председатель таганрогского коммерческого суда Фёдор Романович Мартос, – государь изволил к нам пожаловать 13 числа сего сентября. Редкий день проходит, чтобы не было приказания быть в башмаках и под пудрою, от чего я так устал, что едва держусь на ногах. Говорят, его величеству в Таганроге всё очень нравится, и он располагает пробыть здесь всю зиму, а может быть и долее. Учреждена экстра-почта; фонари поставлены по Московской и Греческой, 63 фонаря – настоящая иллюминация. Вчерашнего дня приехал генерал Клейнмихель, а скоро будет и граф Аракчеев. Что из всего этого выйдет, единому Богу известно. Однако столь неожиданное посещение высоких особ всех нас куражит».