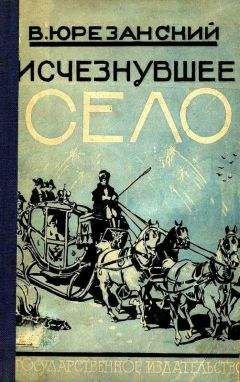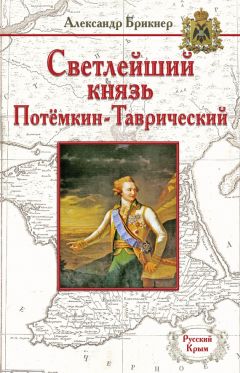Цыган бил с возбуждением и мрачным азартом, упиваясь меткостью и ловкостью своих ударов. После пятнадцатого удара он сменил размокший, совершенно размякший кнут. Когда отсчитали сороковой удар, служитель суда крикнул:
— Полно!..
Это означало: «Кончено. Преступник получил все, что ему причиталось».
Тарасенко развязали. Он не смог стоять на ногах и, как мешок, безкостно опустился на помост. Палач накалил на углях в жаровне докрасна железное клеймо с большой буквой «Б» — первой буквой слова «бунтовщик» — и крепко пристукнул жгучий знак ко лбу Тарасенко. Трескуче зашипело мясо, густыми струйками пошел, заклубился пригорелый дым.
Третьим привязали Игната Колубайку. Цыган что-то крикнул своим подручным. Те метнулись к стоявшей в стороне корзинке и подали штоф водки. Цыган налил полный стакан, запрокинул голову и выпил словно воду. Потом взял кнут.
— Тату!.. Тату!.. — отчаянно, пронзительно, с ужасом закричал Сергунька. — Тату!..
Площадь шелохнулась. Толпа загудела, заволновалась, заклокотала.
Раздался обжигающий свист кнута. Выступила кровь и потекла по спине вдоль ребер.
— Тату!.. — забился волчком, в исступлении Сергунька.
Стоявшие вблизи люди шарахнулись, раздались: Сергунька крутился по земле в буйном припадке. Лицо его натужно посинело, глаза укатились под лоб, изо рта пошла пена. Мать в беспамятстве зашаталась и, ловя руками воздух, упала рядом, как поваленный ветром сноп.
Удары кнута раскровянили всю спину Игната. Рубцы не вздувались, а уходили вглубь, словно ремень до костей вырезывал кожу с мясом. Колубайко не кричал, — он глухо хрипел и охал, задыхаясь от боли.
На площади поднялся плач. В разных концах причитали, ревели и по-кликушечьи вскрикивали бабы.
— Полно!.. — отсчитал служитель суда сорок ударов.
Колубайку отвязали и кинули на помост рядом с Тарасенкой. Палач с шипучим треском и дымом вдавил ему в лоб каленое клеймо.
Очередь дошла до Васьки с гребли. Когда подручные сняли с него кандалы, он вдруг развернулся, молниеносно оттолкнул их и кинулся на палача. Цыган от неожиданного удара кулаком по лицу качнулся и упал. Произошло мгновенное смятение. Но уже, по-волчьи рыча, бросились на Ваську подручные и ближайшие солдаты конвоя. Его сбили, смяли, подтащили к кобыле и прикрутили тугой, цепкой хваткой.
Цыган выше засучил рукава и начал сечь огненно, с мстительным остервенением. Брызги крови и мяса летели на помост. Все тело залилось красными потоками: кнут рвал, терзал, выхлестывал живую мякоть до костей, как коршун.
После одиннадцатого удара Васька с гребли был мертв. Но палач бил его и мертвого.
К концу первого дня, к закату солнца, высечено было семнадцать человек. Цыган взмок, распарился, помутнел и начал шататься от усталости и от водки: несмотря на свою виртуозную ловкость, он успевал наносить в боевой час не более тридцати пяти — сорока ударов.
Утром на следующий день к восходу солнца, к открытию страшного продолжения на Конной площади, стало известно, что ночью в тюрьме умерли от ран Игнат Колубайко и синеглазый смолокур Степура. Тут же рассказывали, что Грицаиха сошла с ума и, дико воя, убежала в мокрую весеннюю степь, а Сергунька метался в беспамятстве огненной исступленной горячки.
Пока истекали кровью и обрастали струпьями на грязных градижских тюремных нарах высеченные турбаевцы, пока задыхались от слез осиротевшие хаты на селе, у братьев Базилевских с наместником Коховским шел торг. Базилевские хотели, чтобы казна выкупила у них всех турбаевцев по пятьдесят рублей серебром за каждую мужскую душу, не считая женщин и детей. Коховский давал только но сорок. Долго тянулся спор, пускались в ход самые красноречивые доказательства, но ни та, ни другая сторона не шла на уступки. Наконец сошлись на сорока пяти рублях. Однако оказалось, что в наместничестве не было такого наличия денег, чтобы сразу расплатиться: Базилевским причиталось свыше пятидесяти тысяч рублей.
Начались новые переговоры. В результате братья согласились получить часть суммы таврической солью, которую они надеялись выгодно продать у себя на Полтавщине или в Киеве. В то же время они неустанно продолжали добиваться не только переселения, но и совершенно бесследного уничтожения Турбаев. Во всеподданнейшем прошении на имя государыни братья писали: «Селения Турбаи даже и название нижайше молим ваше императорское величество истребить, и не быть более на том месте никакому жилью, по причине обагрения оного кровию»…
Это прошение наместник Коховский снабдил своим обширным заключительным отзывом, и ходатайство Базилевских было уважено: Екатерина властным размашистым почерком начертала на белых тугих полях бумаги: «Быть по сему, дабы иным не повадно было».
Получив распоряжение государыни, екатеринославское наместничество решило часть турбаевцев расселить отдельными семьями у Перекопа — в Черной Долине в Чаплынке, при урочище Буркут и в Каланчаке, другую же часть — между Бугом и Днестром, в селах Яски и Беляевка: громаду хотели разорвать на куски, чтобы еще более ослабить ее, чтобы окончательно погасить и рассеять дух сопротивления. И опять послали в Турбаи батальон егерей с двумя сотнями донских казаков, — теперь уже для наблюдения за переселением и для конвоирования в пути.
Вечером 2 апреля отряд подошел к селу. Солдаты разбили палатки, развели костры. В хатах никто не зажигал огня. Из темноты, из гущи насторожившегося человеческого жилья был жутко виден дымный свет костров по всей околице: казалось, поступили и стали осадой дикие татарские или половецкие полчища.
Утром в улицу въехал небольшой конный отряд. Впереди на гнедом дончаке, иноходью выплясывал все тот же «нищегон таврический и новороссийский» секунд-майор Карпов, предательские сноровки которого турбаевцы знали хорошо. Он объявил распоряжение о переселении:
— Собирайте ваши пожитки, укладывайтесь, увязывайтесь. Да поживей! Без проволочек. Через пять дней выступаем.
— Ваше благородие, да мы же сеять начали…
— Что? Никаких посевов! Нагайками буду разгонять с поля!
— Неужели пропадать хлебу? Помилосердствуйте. У нас ведь и озимые есть, — с осени еще засеяны.
— Слышать ничего не хочу!
— Но ведь хлеб же… Семена затрачены, — из земли их теперь не вынешь. А без хлеба что… Без хлеба мы с голоду подохнем…
— Знать ничего не знаю! — закричал Карпов. — Через пять дней должны быть готовы.
Отряд угрожающе проехался из конца в конец и вернулся к своим палаткам.
Громада послала к Карпову стариков упрашивать об отсрочке. Карпов после долгого важничанья и ломанья согласился оставить до жатвы для сбора урожая лишь тридцать семейств: пятнадцать от перекопской партии и пятнадцать от надбужанской и днестровской. Тогда старики указали на одно крайне тяжелое затруднение: пятьдесят шесть человек турбаевцев, оправданных судом, все еще сидят в тюрьме в Екатеринославе, и если переселяться, то неизвестно, как быть с их женами и детьми… Кроме того, свыше тридцати турбаевцев разошлись в разные места внаймы, — у них тоже семьи остались. Что с ними делать?
Как утопающий за соломинку, громада хваталась за каждый предлог, за каждое препятствие, чтобы оттянуть, отодвинуть переселение с родного места.
Карпов послал нарочного к Коховскому за указаниями. Коховский отдал распоряжение немедленно освободить из тюрьмы и отправить в Турбаи забытых арестованных. Семьи же разошедшихся внаймы приказал переселенцам взять с собой, чтобы тем побудить разошедшихся собраться не мешкая. При этом последним, безотложным днем выхода наместник назначил 17 мая.
Уныние и полнейшая растерянность охватили турбаевцев. Люди стали как тени. С горечью смотрели они на свои хаты, на сады, огороды, левады, поля, на Псел и Хорол, точно тесным объятием охватившие село, и не могли представить последнего дня, не могли примириться, что все это надо покинуть и потерять навеки.
— Предупреждаю, — грозился Карпов, — если не выйдете семнадцатого, я прикажу стрелять по селу.
Наконец настало и 17 мая. Тихо, безмолвно стояли Турбаи. Ни один человек не вышел из хаты. Никто не сложил возов для похода.
— Ну, хорошо же!.. — кричал и ругался Карпов, обскакивая улицу от хаты к хате на ретивом дончаке.
Вечером и всю ночь, как неминучий приговор, зловеще горели в околице солдатские костры. В отчаянии и нерешительности, в немом бессилии ждало своей участи село, все еще смутно надеясь на что-то, на какое-то чудо, как приговоренный к казни до последней секунды ждет распоряжения о помиловании.
Утром Карпов вступил с отрядом в село и велел солдатам рассыпаться по дворам.
— Сейчас же запрягать лошадей, складывать вещи и ехать! Ну, живо! — загалдели по дворам зычные крики на разные лады.