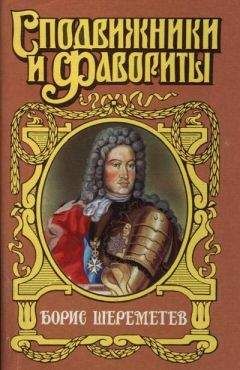Помимо переговоров новые друзья закатывали пирушки, на которых если и затевался деловой разговор, то более ругательный в отношении империи, о Швеции ни слова.
Устроили смотр войскам Августа, который вместе с королем принимал капитан Питер, а когда полки пошли маршем перед ними, то этот самый Питер, схватив драгунский {86} барабан, лупил в него столь четко, что солдаты в строю невольно подтягивались и держали шаг.
Не обошлось и без стрельб. При стрельбе из пушек капитан Питер ни разу не промахнулся. Август был даже расстроен, из десяти выстрелов у него только два удачных было.
Зато когда начали стрелять из ружей, Август обошел друга Питера и радовался этому как ребенок.
Вечером, когда укладывались спать, хитрый Меншиков спросил Петра:
— Мин херц, а на кой черт ты из ружья мазал?
— А что, заметно было?
— Может, для короля и незаметно, но я-то тебя знаю.
— Понимаешь, Алексаха, он человек самолюбивый. После пушечной стрельбы чуть не плакал от обиды. Надо было утешить парня, все-таки союзник.
— Союзник, — скривился Меншиков, — из чашки ложкой.
— И такой, Алексаха, годится, помяни мое слово.
Что бы там ни говорил Меншиков, а Август Петру нравился. Здоровый, высокий, сильный, веселый, выпить не дурак. По всему видно, за Петра готов в огонь и в воду.
— Еще бы… — ворчал ночью Меншиков. — Кто ему корону добыл?
Конечно, и Петр понимал, откуда такая приязнь у Августа к нему, но все равно был рад, что нашелся союзник верный. Пусть пока на словах, но, кажется, надежный.
Именно на словах, да и то втайне от всех, договорились они готовиться к войне со Швецией.
— Как только я заключу мир с султаном, тогда и начнем, — пообещал Петр.
Бумаги писать не стали. Что та бумага может значить между двумя друзьями? Решили скрепить свой пока тайный союз по-другому, почти по-братски. Поменялись одеждой — кафтанами, шляпами — и даже шпагами, хотя королевская шпага была куда хуже царской, очень грубой работы.
— Эку дудору выменял, — проворчал Меншиков, но этим и ограничился, дабы не сердить мин херца.
Нет, на союз этот будущий толкнул Петра не обаятельный Август, не его страстные речи, а обстоятельства. Антитурецкий союз разваливался, и надо было искать других союзников, другую опору и менять даже направление интересов: «с зюйда на норд», как выразился сам Петр. Август просто подвернулся в нужное время и угадал и угодил сокровенным мыслям царственного друга.
Проведя с королем три дня и несколько отдохнув душой, Петр поехал на Замостье, где пани Подскарбная, польщенная приездом высокого гостя, устроила торжественный обед, на котором к Петру подсел папский нунций {87} и стал хлопотать о свободном проезде через Россию католических миссионеров в Китай.
— Пожалуйста, — великодушно разрешил Петр, — но только чтоб среди этих католиков не было французов.
Не мог Петр забыть французские интриги в Польше {88}, да и в Голландии не мог забыть и простить так просто.
В Томашеве он посетил католическое богослужение и охотно принял благословение от священника Воты, которого знал еще по Москве.
— Ваше величество, — сказал Вота, — я надеюсь, что вы с королем Польши наконец-то прикончите Турцию.
На что Петр отшутился:
— Шкуру медведя, святой отец, делят лишь после убиения медведя.
В Брест-Литовске Петр остановился у виленской кастелянши, куда явился некий прелат {89} Залевский, представиться царю и побеседовать с ним.
— Что-то на меня католики налетели, как мухи на мед, — проворчал Петр.
— Небось в свою веру хотят тебя, — хихикнул Меншиков.
Но Залевский, в отличие от осторожных Воты и нунция, решил сразу брать быка за рога.
— Если вы истинно верующий, государь, то должны наконец признать, что Греческая церковь схизматическая {90}.
Петр мгновенно изменился в лице и молвил негромко, но внятно:
— Монсеньор, благодарите Бога, что вы сие молвили не в России, там бы за это поплатились головой. И далее я не желаю с вами разговаривать. Оставьте нас.
Залевский разинул рот от удивления, пришлось Меншикову указать ему на дверь:
— Не понял, что ли, монсеньор? Отчаливай.
Наконец-то въехали в Россию, и Петр стал все более и более смуреть. После Смоленска даже Меншиков не решался прерывать размышления своего спутника, потому как рядом сидел уже не бесшабашный бомбардир или капитан, а царь всея Руси, самодержец и повелитель. И, видно, тяжелые, недобрые мысли ворочались в его голове.
Москва ждала его и боялась, догадывалась, с чем едет самодержец, что везет в сердце своем.
Лишь когда засияла в августовской дымке золотая голова Ивана Великого, разомкнул царь уста, сказал с горечью:
— Уезжал от крови и ворочаюсь к ней же. Эх, Русь!
И Меншиков понял: грядет розыск.
Въехал Борис Петрович в Москву морозным утром 10 февраля 1699 года, когда расправа над восставшими стрельцами близилась к окончанию. Столица давно не видела таких массовых казней. Тысяча пятьсот девяносто восемь стрельцов поплатились жизнями за свое возмущение. Отлетали головы сотнями, тупился топор от столь жаркой работы, точили и снова пускали в дело. Палачи умаивались от стонов и слез казнимых и их жен, по-волчьи завывавших на улицах Москвы. Иногда и сам царь, умевший хорошо держать топор, помогал палачам, мало того, привлекал и ближних бояр к этому страшному делу. Не все годны были на такое. Федор Матвеевич Апраксин, добрейшая душа, категорически заявил:
— Уволь, государь, я ведь не кат {91}.
— А я — кат?! — ощерился по-звериному Петр, но все же простил упрямца. Из-за того, что любил, ну и из-за того, что Апраксин как-никак ему родней доводился, его сестра была за старшим братом царя, Федором.
Но Меншиков! Вот кого и уговаривать не надо было. Даже в отрубании голов преуспел. Наливаясь вечером вином в доме Лефорта, похвалялся:
— Ноне двадцать штук оттяпал. Ни разу не промахнулся. Во!
Кого волокли на плаху, а кого и в петлю. Перед окнами кельи царевны Софьи Алексеевны повесили шестерых стрельцов для устрашения монахини Сусанны, так наречена была царевна после насильного пострижения и навечно заперта в монастыре. Снимать повешенных было не велено.
— Пусть любуется, змея, на свое деяние, — сказал Петр, убежденный в том, что именно она — его сестра — подвигла стрельцов на бунт.
Вот в такую Москву, залитую кровью и слезами, въехал Борис Петрович со своими спутниками. Хотел он явиться во дворец на следующий день, но уже ввечеру примчался от царя посыльный: «Извольте к государю».
— Ба-а! — вскричал царь, увидев в дверях кабинета Шереметева в коротком до колен кафтане, чисто выбритого, с крестом на груди. — Вот порадовал, Борис Петрович!
Он шагнул к нему навстречу, обнял, поцеловал. Отстранив от себя, оглядел с ног до головы.
— Молодцом! Ей-ей, молодцом! Не знал бы, подумал, герцог европейский. И кавалер уже. А? Алексаш, глянь-ка на крест Мальтийский.
Меншиков смотрел издали, не подошел, заметил:
— Однако наш Андрей Первозванный {92} лучше будет.
— Нам его сначала надо утвердить, изготовить, а потом и заслужить. А тут, пожалуйста, среди нас уже и кавалер. Поздравляю, Борис Петрович. Искренне рад за тебя. Ну, садись, рассказывай.
— С чего начать-то, государь? С Польши?
— С Польши не надо, мне Август рассказывал, как тебя из тюрьмы выручал.
— С Вены?
— В Вене я был после тебя, все знаю свеженькое.
— Я ждал тебя, государь. Везде говорил, что ты обязательно приедешь. Готовил почву, как ты изволил выразиться.
— Сам видишь, стрельцы взбунтовались, трон зашатался, и вместо Венеции пришлось домой правиться, розыск учинять. Да, пожалуй, и за Венецию нечего спрашивать. Они спелись с Веной, замирились с султаном. Теперь, пожалуй, наш черед подошел, Борис Петрович.
— Мириться с Портой?
— Ну да. Придется поворачивать оружие с зюйда на норд.
— Швеция?
— Она самая.
— Но у нас же мир с ней.
— Какой это мир, кавалер? Позор, а не мир. Вся Ингрия, которая испокон была наша, под шведом ныне. А Орешек? Новгородцы строили, а ныне там шведы сидят, да еще ж и переименовали в Нотебург, чтоб всякую память о русском происхождении стереть.
— Тогда, конечно, государь, с Портой мир нужен любой ценой, — согласился Борис Петрович.
— Вот именно, любой ценой. И цена будет немалая. Султана к миру наклонять только силой можно. Вон австрийцы при Зенте расколошматили его, сразу пардону запросил.
— Мы тоже его били изрядно, государь. При Азове хотя бы. При Казыкермене.
— Ну, в Казыкермене, допустим, ты не турок колотил, кавалер, татар крымских.