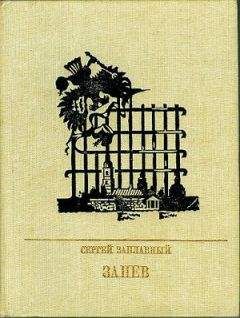Широко разошелся в народе сказ о том, как святой старец укротил литовского магната Яна Петра Сапегу, полтора года без малого безуспешно осаждавшего Троице-Сергиев монастырь, отданный ему Тушинским цариком Лжедмитрием Вторым на разграбление. В те поры и нагрянул воинственный иноземец в Борисо-Глебскую обитель к Иринарху за благословением своему черному делу. Видя такую его наглость, затворник с достоинством возрек: «Не туда ты пришел, ясновельможный пан. Я в Руси рожден и крещен, за истинного русского царя Бога молю, а не за самозванца, посаженного руками иноверцев и предателей. Со всех сторон неприятели Московское государство, аки псы голодные, на клочья рвут, и всем порубежным народам мы теперь в посмех и в позор, и в укоризну. Но долго этому уже не быть. Знаю! Верую! Мое отечество — Русь, мой дом — сей монастырь, мое благословение — лишь тем, кто своей вере служит и своей земле вовеки предан остается».
Такая его непреклонность сбила спесь с горделивого Сапеги. «Истину глаголишь, батька, — через силу признал его правоту он. — В коей земле жить, тому царю и править. Но я-то человек вольный, королю и королевичу не служу, от царя Дмитрия не завишу. Стою при своих заслугах».
Иринарх покачал головой укоризненно: «На чужой каравай зявиться — невелика заслуга. Лучше возвратись, господине, во свою землю. Полно тебе в Руси воевать. Аще не изыдешь из нее или опять на Русь явишься, не послушавшись слова Божия, то в ней смерть примешь».
Тут и вовсе сник самовластный пан Сапега. Из монастыря он ушел тогда тихо, с миром, да еще и пять рублей на молебен старцу прислал. Однако от своих злобесных дел так и не отступился. За то ему и смерть вскоре на Москве сделалась. Жил, жил, воевал, воевал, а все равно от кары Божьей не уберегся. Остатки его войска с гробом предводителя спешно отбыли в Литву. Проще сказать, бежали. Это ли не предупреждение всем прочим искателям легкой поживы, топчущим Русскую землю?
Зато князя Михаила Скопина из рода Шуйских Иринарх возлюбил, как сына родного. Они спознались два года назад, когда Скопин, опираясь на поддержку предложивших свои двоедушные услуги шведов, погнал от Великого Новгорода до самой Москвы тушинских изменников, гонорных ляхов и литву. Благословив князя, Иринарх вослед ему слал то освященную просфору со словами: «Дерзай, не бойся, Бог тебе поможет!», то крест, сделанный им самим для укрепления воинской мудрости ратоборца Михаила. Скопину в те поры всего двадцать четыре года минуло, однако многие хотели видеть его на троне вместо царствующего дяди, бездетного и нелюбимого в народе Василия Шуйского. Скорее всего это и стало причиной гибели Скопина в Москве, которая встретила своего любимца звоном колоколов и всеобщим ликованием. На крестинах одного из московских бояр Скопину подсыпали в угощение яд. Это злоумыслие молва приписала жене Дмитрия Шуйского, еще одного властительного дяди князя. Да и то сказать, Екатерина Шуйская из змеиного гнезда родом. Именем ее родителя Малюты Скуратова, главного опричника первого русского царя Иоанна Грозного, и до сей поры старых и малых, правых и виноватых на Руси пугают. Заопасались дядья своего племянника: а вдруг он, и правда, мимо них на престол возжелает сесть? Вот и устроили ему отравление. Увы, крест Иринарха, защитивший Скопина от врагов явных, не смог уберечь его от врагов тайных. Но свято место пусто не бывает. Уже возвестил прозорливый старец, что грядет на место почившего витязя другой защитник земли Русской — тоже князь, но лет на десять постарше. Кто таков? — Глядите и увидите! Вроде как на князя Дмитрия Пожарского намекнул.
Однако не только магнаты и князья ищут благословения у вещего Иринарха. Старец открыт для людей всех сословий. Одним он дает утешение, в других вселяет веру, третьих пристыжает, четвертых врачует, пятых отвращает от пристрастия к питию хмельному… Как-то он встретит Кирилу? Кабы знать наперед, так и не колыхалось бы неспокойное сердце.
Отлежавшись под вязами, Кирила встал, пучком мокрой травы почистил изношенный кафтан, другим пучком обтер прохудившиеся сапоги, расчесал пальцами волосы и, схрумкав два последних сухаря, ходко зашагал к монастырским воротам.
Имя Иринарха открыло их и повело его через два темных двора мимо Просфорного дома и занятых своими делами чернецов к дальней стене между тринадцатой и четырнадцатой сторожевыми башнями деревянной крепости. Здесь, в летнем затворе, и пребывал Иринарх.
Большинство отшельников проводит свое время в постах, самоистязаниях и молитвах. А Иринарх, по рассказам очевидцев, взял себе за правило еще и трудиться, принося вещественную пользу. Для монастырской братии он волосяницы из конских грив и хвостов вяжет, для нищих платье из крапивы шьет, для калик перехожих обутки делает: из подкорья молодых лип — лычные лапти, из подкорья лип старых — мочалыжники, из ивы-ивняки, из ракиты — верзни, из вяза — вязовники, из березы — берестяники, из тала — шелюжники. А для себя самого ужище железное чуть не в двадцать саженей длиной сковал, медных крестов более сотни изготовил.
Однако слышать о трудовых занятиях Иринарха — одно дело, зреть их — другое. Первое, что увидел Кирила, войдя в затвор, — цепь, которой старец себя к стене и колоде, называемой здесь стулом, приковал. Пучок света из единственного верхового оконца играл серебром его волос, схваченных железным обручем. Из-под бороды проглядывало шейное путо. Грудь и плечи его были увешаны веригами. Нижняя часть тела связнями из белого крушевца опоясана. Руки и пальцы утиснуты множеством оковцев. Казалось, Иринарх весь одет в железо. Лишь местами из-под него проглядывало темное, прошитое свиной щетиной рубище.
Колени Кирилы сами подломились. Разве можно смотреть на богатырского старца сверху вниз?! Ведь не железо он на себя взвалил, а грехи человеческие. В том числе — грехи Кирилы. Подобно Исусу Христу подвиг искупления бессрочно творит.
— Отче! — только и сумел выговорить потрясенный Кирила. — Прими! Смилуйся! Выслушай! — и уронил на грудь голову.
Твердая, как подошва, ладонь Иринарха ласково легла на нее.
— Пришел наконец-то, сыне мой, — голос у старца глухой, с придыханием; чувствуется, что зубы у него искрошились, а частью повыпали. — Ну, здравствуй, здравствуй. С чем припожаловал?
Кирила вскинул на него глаза.
Лицо у Иринарха широкое, скуластое, нос бугорком, щеки прорезаны глубокими морщинами, переходящими в уголки губ тонкими закрылками. Взгляд острый, испытующий; от такого озноб по коже идет. Но взгляд этот не отталкивал, а притягивал, побуждая к откровению.
— Беглый я! — как в студеную воду бросился Кирила.
— И от кого же бегаешь? — участливо полюбопытствовал Иринарх.
— Сперва от жены и дочери, но это поневоле, до времени. Потом от родительской опеки. После от поборников одной власти к другой… Можно обниматься, но не верить. Я не такой. Вот и надорвался. Теперь от себя самого бегаю. А что дальше делать, не знаю. Просвети, отче! На тебя последняя надежда.
— Не ты один в бегах ныне, чадо. Многие умом заблудились, живут вкривь и вкось, не по совести. Главное ты мне вкратце обсказал. Теперь подробно говори, без утайки. А я покамест лаптишко доплету, дабы не терять светлого времени, да тебя горемычного послушаю. Ты тоже свой лаптишко плети, но честными словесами. Там видно будет, что с тобой дальше делать.
Только теперь Кирила заметил в руке у старца крючковатый кочедык величиной со спицу, а на коленях обувную колодку с плетением, которое уже обрело очертания лаптя. Поперечные лыка загнуты на обушник, продольные на запятке внакрест сходятся. Строчки ровные, крупные, одна к одной. Вот так и Кириле говорить надо: крупно, просто.
— Ежели издалека глянуть, я сызмала себя высоко ставил, — словно пробуя тонкий лед под собой, начал он свою исповедь. — Матушка мне все дозволяла, а родителю не до меня было. Он в ту пору на Москве дьячил, сторону царя Бориса крепко держал. А я рос поборником новых порядков, которые из других христианских государств шли. Вот и качнулся к лжецаревичу Дмитрию. Откуда мне было знать, что за ним другой из мертвых воскреснет, за ним третий да и станут они Русь, как на пытке, жечь и ломать?! Теперь-то я на прошлое с высоты времени гляжу, а тогда в мечтах о свободном царстве далеко залетал. Так далеко, что едва в государев застенок не угодил. Ладно, батюшка меня вовремя в Сибирь спровадил. Из нее мне многое по-иному увиделось. Осознал я там его слова про то, что под чужую голову идти — свою нести. А еще про то, что свое плохое чужим хорошим не исправить, потому как у каждого народа своя вера, свои обычаи, свой язык. Лишь корысть на всех одна, как моровое поветрие. У нее ни веры, ни совести нет, а только черная алчба. Это она главный разор миру чинит…
Слушая Кирилу, Иринарх очередное лыко кочедыком в переплетку повел, а сам нет-нет да на коленопреклоненного каяльщика внимательно глянет. Теперь свет из верхового оконца с седовласой головы старца на его руки в сеточках набухших жил переместился. Кабы не оковцы, эти руки не ползали, а сновали.