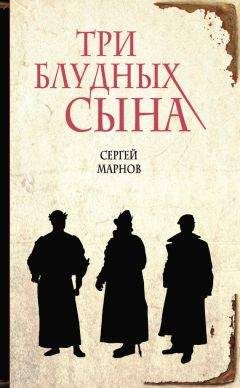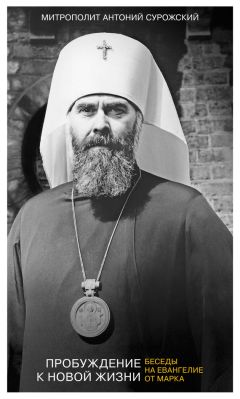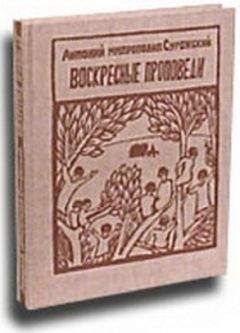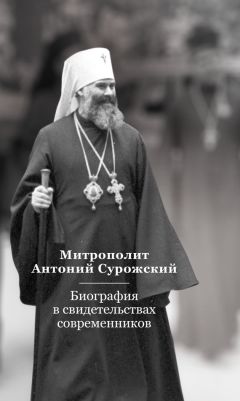– Испугался, Федко? – язвительно спросил Иван Васильевич. – Прямо как в медвежью клетку входишь! Не бойсь, не съем… пока.
Бельский принужденно засмеялся, а Хворостинин, игравший партию с царем, неодобрительно хмыкнул и двинул вперед фигуру.
– Взял твоего коня, государь!
– Увы мне, окаянному! – чуть покривлялся Иван и переместил короля.
– Но тогда… шах!
– Надо же, шах! Да еще ладьей! – продолжал издеваться царь. – Придется бежать мне в грады дальнеконные или… разве, вот так попробовать?
Царь переместил ферзя, взял дерзкую ладью и тихонько засмеялся. Князь Дмитрий недоуменно уставился на доску.
– Это что? – тупо спросил он.
– По-персиянски это называется «мат» – съехидничал царь. – Ты хорошо играл, князь, только забыл, что я просто так коней не отдаю. То-то!
Царь радовался победе, как ребенок, а Хворостинин злился совершенно непритворно. По его моложавому, красивому лицу, обрамленному аккуратно подстриженной бородкой, пробегали судороги – от рваного шрама под глазом до уголка рта.
– А ты играешь в шахматы, Федко? – спросил царь.
– Не обучен, государь.
– Обучу, коли уж Богданка мне новую нитку прицепил. Вон, Митька тоже не умел, а сейчас нет-нет, да и обыгрывает.
– Какую такую нитку? – поинтересовался Нагой.
– Такую, из поговорки, слыхал? «Куда иголка, туда и нитка». Иголка, стало быть, я, а вот нитка – ты. Только иголка и сама не знает, куда ей ткнуться. Степка Обатур[97] бьет нас повсюду, вот уж и Полоцк отобрал… Отряды малые в дальний поиск отправляет, чуть не до Москвы добираются. Ну, не до Москвы, конечно, только это утешение слабое. Что делать?
Три пары глаз уставились на окольничего. Всем было интересно, что он скажет: пограничный воевода мог увидеть то, что ускользало от глаз верховной власти.
– Договариваться надо, государь, – печально сказал Федор Нагой.
– Ты, пес, хочешь сказать, что я проиграл войну?! Войну, которую вел больше двадцати лет?! – взорвался вдруг царь. Перемена, произошедшая с ним, оказалась настолько неожиданной и разительной, что Федор в страхе попятился к стене. Глаза Ивана налились кровью, он встал во весь свой немалый рост, нашаривая на поясе рукоять кинжала.
– Это не я, это все измены ваши, подлости холопьи! Обатуру продался?! – гремел царь, но вдруг взгляд его упал на ладанку, висевшую на груди Нагого. Иван часто-часто заморгал глазами, повел головой и взгляд его прояснился.
– Да пытались мы договориться, – как ни в чем не бывало сказал Иван Васильевич и сел на прежнее место. – Степка такие условия выдвинул, что хоть ложись и помирай. И ни в какую не уступает, уперся, как онагр-конь[98].
– Надо его пошевелить, – осторожно сказал Нагой, – послать отряд, не слишком большой, но и не малый. Пусть погуляет по Литве, да поглубже зайдёт. Глядишь, онагр-конь и стронется.
– Митька, сколько Разрядный приказ собрал войск на этот год? – спокойно спросил Иван Васильевич.
– Двадцать три тысячи, да еще маленько.
– А с казаками?
– Это с казаками.
– А с татарами?
– С татарами считал.
– А боевые холопы?
– Ну, не знаю. Тысяч десять наберется, если поместники не зажидятся. Хотя, скорее, зажидятся. Обезлюдели поместья-то, служилые люди по дворам пометаются[99].
– Это все, Федко, все, что у нас есть для похода. Или сторожу снять с границ?
Нагой ясно представил себе татарскую лаву, весело и лихо идущую на грабеж беззащитной Руси. Из Крыма, из ногайской степи, даже из Сибири. Казаков запорожских, что хоть и крещены, да хуже нехристей бывают… их тоже понять можно: а чего не взять, если плохо лежит?
– Нет, – прошептал Нагой, – сторожу снимать нельзя, никак нельзя.
– А хороши ли эти двадцать три тысячи, Митька? Скольких из них ты взял бы в настоящее дело? – прежним тоном спросил Иван.
– Одного из пяти, государь. Остальным месяц отъедаться, полгода учиться.
– Так, – немного зловеще прошипел царь, – а скольких бойцов Обатур сейчас в поле двинул?
– Пятьдесят тысяч.
– А сколько может?
– Еще столько же – легко. И никаких татар с казаками. Польская панцирная конница, лучшая на всем свете; немецкие стрелки со скорострельными пищалями, литовская латная пехота… как упрутся в землю своими алебардами – не сдвинешь! Да еще рыцари ливонские, что пошли под польскую корону. Хорошее войско, государь, очень хорошее.
– Видишь, Федко, – горько промолвил царь, – до чего довел Русь царишко безумной? И что присоветуешь?
– Пусть князь Дмитрий берет эту пятую часть, и уходит в дальний посыл. А с оставшимися можно и кому другому Обатура попугать. Издаля попугать, в большую драку не лезть.
– Ну попугаем – в этом годе уйдет Обатур, а дальше? Вернется же…
– Готовиться надо, государь, – задумчиво проговорил Федор Нагой. Опытнейший воевода пограничья, он сразу включился в привычные поиски решения унылой и постылой задачи под названием «Тришкин кафтан». Как малыми силами остановить нашествие? Как предупредить последующие нашествия? Где взять людей, для которых топор не только инструмент, но и оружие? Чем накормить этих людей? Задача имела бесконечное количество вопросов; с ответами было значительно хуже…
– Конечно, пятая часть – это мало, слишком мало, – бормотал Нагой, а перед глазами у него проходил последний смотр служилых людей, на котором он отбирал пограничную стражу. – Надо, чтобы половина, не меньше. Тогда и все войско подтянется. Ты, государь, вели, чтобы воина не со ста, а с пятисот четей брали, но доброго, на хорошей лошади, и оружного, по росписи. И чтоб не воеводы местные в царское войско людей отбирали, а дьяки московские[100]. Понимаешь, дурят тебя воеводы; что получше, себе оставляют, а поплоше – тебе, государь…
– И кто же повинен в таких делах? – тихим от скрытой ярости голосом спросил царь. – Имена знаешь?
Нагой не заметил отчаянных сигналов, что подавали ему Хворостинин с Бельским, и простодушно продолжил:
– Да все! Я вот – первый! А что было делать? Ты же…
Договорить он не успел. Иван взревел раненым медведем, вырвал кинжал из-за пояса и пошел на окольничего. Царь был страшен, в нем не осталось ничего человеческого. Тоскливый, безнадежный ужас тисками сжал сердце Федора Нагого; странный, невещественный смрад угнетал душу. Захотелось лечь и не вставать – никогда. Федор всегда был бойцом, и по профессии, и по душевному своему строю, поэтому разозлился на себя, стиснул в кулаке ладанку и стал творить самую короткую молитву, забыть которую невозможно: «Господи, помилуй!»
Иван раскачивался из стороны в сторону и выл на очень низкой ноте, стиснув голову руками. Брошенный кинжал валялся у его ног.
– Смотри! – потрясенно крикнул князь Дмитрий. – Он борется, сам борется! Так еще не было!
Бельский и Хворостинин бросились на колени перед образом Пресвятой Богородицы, списком с иконы, чудесно явленной в Казани. Вой стал тише, затем сменился бормотанием и всхлипываниями. Нагой вдруг заметил, что царь без чувств заваливается набок. Кинулся к нему, подхватил падающее тело и чуть сам не рухнул под его тяжестью.
Когда царя совместными усилиями усадили в кресло, по его окаменевшему лицу пошли судороги, оно обмякло и расслабилось.
– Все, теперь спать будет, – шепотом сказал Бельский, – пойдем отсюда. Часа два у нас есть…
– Я тебе пойду! – прохрипел царь, открывая глаза. – Все живы?
– Все, государь, – растерянно ответил Хворостинин. – Слава Богу!
– Слава Богу! Федко, дальше…
– Что – «дальше»? – не понял Нагой.
– Твои последние слова были: «А что было делать? Ты же…», – нетерпеливо сказал царь. – Продолжай!
– Ты же мне голову снимешь не за худых ратников, а за то, что татар пропущу! И все воеводы так рассуждают. Сам посуди: у меня враг в поле, его видно всегда, вот он! Ну, отбираю я себе воинов, с которыми в бой пойду, так что же? Возьму кого подохлее, на клячах худых, да в доспехах дощатых?!
– А мне, значит, можно?!
– Так это… мы как думаем? Царь и подкормит, и оружием пожалует…
Повисла нехорошая тишина. Казалось, бесовское нападение вот-вот повторится, но Иван Васильевич лишь сказал с горечью:
– Царь пожалует… догонит – и еще пожалует. Бесноватый он, царь-то ваш. Только говорить об этом не смей, слышь, Федко? Убью. Знаешь – и знай; тебе – полезно, остальным – не надо. А ты, Богданка, вели указ писать, по Федкиной сказке[101]. Подите все за дверь, посплю. Решите промеж себя, кто сторожить останется… ступайте…
…За дверью окольничий отер пот со лба и выдохнул:
– У вас всегда так страшно?
Бельский и Хворостинин переглянулись недоуменно, и князь Дмитрий приобнял Нагого за плечи.
– А сегодня, Феденька, у нас совсем не страшно, – сказал он весело, – сегодня самый лучший день за последний месяц! Страшно бывает, когда не поймешь сразу, кто перед тобой: Иван или тот… другой. Вроде и говорит разумно, и не рычит по-звериному, а… вот тут-то и держись! Ничего, привыкнешь!