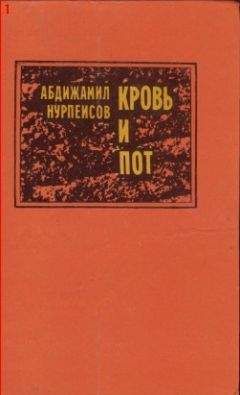Пароход подошел в условленный час. Дьяков на шлюпке съехал на берег. Еламан рассказал обо всем, что видел и слышал.
Потом Дьяков, попрощавшись, сел опять в шлюпку, а Еламан вернулся в юрту и лег рядом с женой и детьми. Он так сильно устал и переволновался за день, что уснул, едва коснувшись головой подушки.
За стенкой юрты перхнула верблюдица, и Еламан проснулся. Сев на постели, он вдруг почувствовал такую сильную головную боль, что, сжав виски, долго раскачивался, потом снова прилег. Но сна не было. Уже прошла короткая летняя ночь, уже начинало светать, а он все ворочался, и сон не шел к нему.
Одна и та же мысль не давала ему покоя: узнал ли его Танирберген? Он с грустью думал, что в последнее время все чаще стала навещать его бессонница. Раньше он засыпал мгновенно и спал крепко. Или это уже сказывается возраст? Ах, как быстро все-таки пролетела жизнь! А в жизни этой не только не было покоя, но, казалось, он сам только и делал, что искал в ней и находил всяческие тревоги. Так, где бегом, где шагом идя сквозь огонь и воду, он и не заметил, как дожил до сорока лет. А за этой межой уж и до старости недалеко. Еще десять — двадцать лет, и старость станет твоим уделом, и как бы ты ни брыкался, а придется ей покориться.
На постели, прижимаясь тугим горячим телом к его боку, спала Кенжекей. Он прислушался к ее ровному тихому дыханию. «Да, тело старится, но старится ли душа?»— думал Еламан. Пожил, пожил, и годы уже немалые, а душа, если судить по себе, молода все-таки, как у мальчишки. Он чувствовал себя все еще таким, как в давние времена, когда он женился на Акбале. Сила его еще не убывала. Он мог по-прежнему подняться бегом вверх по склону холма и не задохнуться. Вот разве в одном только стала проявляться его слабость — он не мог думать без слез о своих родных и друзьях, которых больше никогда не увидит.
Ушли из жизни Итжемес, рыжий Андрей, Култума, Мунке, Ализа, Есбол-кария. Рай… Закрыл навеки глаза и, может быть, не похоронен даже неуемный Судр Ахмет. А скольких еще других незабвенных людей уже нет в живых! Одних он любил, других недолюбливал, с одними жил как с братьями, с другими враждовал… Почему, из-за чего? Или им земли под солнцем не хватало? Или в нашей проклятой черствой душе не хватает человеческого тепла? Господи боже мой, как в своей куцей жизни люди не ищут мира, покоя, как чернят, унижают друг друга, ссорятся и враждуют! И вот почти никого из тех, с кем ты собачился за свою недолгую, если оглянуться, жизнь, нет на свете. Жестокая судьба торопится выкосить сначала тех, кого ты любил или ненавидел, а потом берется и за тебя. И главное, что все твои друзья и недруги не только сами уходили из жизни, а каждый раз забирали с собой некую драгоценную частицу и твоей души, невозвратимые мгновенья твоего детства, молодости и зрелых лет.
Еламан лежал неподвижно, даже дыхание его иногда замирало. Сквозь прорехи кошмы на него смотрели далекие мерцавшие звезды. Сон окончательно прошел. Видно, так уж создан человек, что со смертью близких в его душу каждый раз вселяются тоска и печаль и все чаше посещают его грустные думы. И тогда даже дома, рядом с женой и детьми, все равно чувствуешь себя одиноким и сиротливым перед лицом неминуемой смерти. Наверное, все это оттого, что близится старость… Что там говорить, вон даже Кален, неутомимый, железный Кален, заговорил однажды об усталости. Как он тогда сказал? Ах да… Там, где в детстве ударили асыком или ущипнула девушка, все в старости отзовется, все будет болеть. Рано или поздно каждый это чувствует.
На широкой постели вольно разметались четверо малышей. Вот кто-то из них заворочался, захныкал спросонья. Боясь, что проснется чуткая Кенжекей, Еламан осторожно потянулся через нее, ласково потрепал малыша по плечу, и тот сразу успокоился.
Конечно, нелегко приходится ей растить этих четверых от разных матерей. Только доброта и душевная щедрость помогают Кенжекей без обид разделить поровну ничтожные крохи бедного дома. Хорошо, если эти пострелята потом, когда встанут на ноги, помянут ее добрым, словом.
Еламан еще раз искоса взглянул на детей, лежавших за женой. «Интересно все же, какими они станут? — вдруг подумалось ему. — Будут на нас похожи или нет?» Кто знает, откуда Дьякову ведомо, но он утверждает, что в будущем все люди на земле будут другими, самое главное — равными. Что ж… можно, конечно, допустить, что все будут одинаково одеты, обуты, сыты. Никто не будет обделен. Но если всех бог создал разными? Ведь даже между родными, что живут под одной крышей, греются у одного очага, и то не всегда бывает равенство. Ведь и там один верховодит, на резвом коне разъезжает. А другой с утра до вечера в жару и стужу за отарой плетется. Ну хорошо, разобьем врагов, будет все по-нашему, и жизнь изменится, и все люди будут равны, но сумеют ли они обуздать ненасытные свои желания, свою корысть? Возможно ли это? Не раз приходилось ему укрощать необузданных лошадей. Бывало, самая строптивая, норовистая, оказавшись под железными шенкелями наездника, становилась как шелковая уже через день-другой. Более того, она угадывала и исполняла малейшее желание всадника и послушно следовала капризу повода. А как же быть со строптивым, своенравным человеком? Неужели и его нужно, как лошадь, обуздывать? А? А? Нет, не понимаю. Все же, пока жива в человеке корысть, видно, и в будущем среди этих сорванцов кто-то будет в почете, кто-то у порога.
Жена и дети его спали, и им было хорошо, но невеселые думы будто собрались в юрту, и воздух в ней был напоен печалью. Еламану вспомнилась старая бабушка. Незадолго до кончины бедная совсем почти оглохла и, когда к ней обращались, каждый раз из-под кимешека высвобождала ухо. Болезни одолевали, а она продолжала отчаянно бороться со смертью. Нет, не о себе, не о своей жизни она тогда думала. Все думы ее были о внуках, Еламане и Рае: кто о них после нее позаботится, кто для них разведет огонь, сготовит пищу когда они, усталые, замерзшие насквозь, придут домой с моря? О бедная добрая бабушка, пусть тебе спокойно спится в этой земле! Господи, в кои веки вспомнил он вдруг ее! До чего же черств человек, до чего забывчив, до чего не думает о том, что и ему придется, в свой час уйти в могилу. Едва умрет человек, как живые забывают его, будто ушедший и не жил никогда, как будто между живыми и мертвыми сразу же образуется и с каждым днем все больше расширяется тусклая пропасть. Едва исчезнут милые черты под землей, как в душе твоей уже гаснет пламя любви, и даже самые близкие люди, отец или мать, забываются, забываются…
Еламана вдруг пронзила щемящая боль от мысли, что и он такой же, что и он ничем не лучше проклятых людишек, как вши, ползающих по этой земле и думающих только об одном — как бы напитать ненасытное свое брюхо.
Вот и Рай… Апыр-ай, как скоро забыл он своего братишку! Старая бабушка, бывало, души в нем не чаяла. Он как бы задержался для нее в своем детстве. Он уже и вырос, и уходил вместе с рыбаками в море на промысел, а бабушка по-прежнему ласково называла его: «Мой ягненочек!» И Еламан внезапно так явственно представил себе дорогое, изрезанное сухими морщинами лицо бабушки, что даже дыхание затаил. Она так любила их, его и Рая, что, даже браня, не в силах была скрыть теплоту и нежность своего старого сердца.
Звезды давно скрылись, и небо поголубело и засияло, когда Еламан вскочил, уловив далекий топот копыт. Сердце его заколотилось.
— Кто это? — тихо спросила проснувшаяся Кенжекей, тоже прислушиваясь к приближавшемуся топоту копыт.
— Да что ты просыпаешься от каждого звука!
— Это белые, да?
— Какие там белые, чего им тут надо? Лежи, ради бога, я выйду узнаю…
— Еламан! Это белые!
— Вот выдумала.
— Я тебя не пущу!
Кенжекей кинулась к нему и так крепко обняла его, так прижалась, так бурно застучало ее сердце, что Еламану стало тоскливо, и он подумал, что вот пришла и за ним судьба.
Заря все разгоралась, даже в юрте с опущенным тундуком посветлело. Топот копыт приближался так стремительно, что казалось, еще мгновенье — и всадники растопчут юрту. И вдруг у самой двери все оборвалось.
— Эй, безбожник, выходи!
Еламан узнал голос толмача. Осторожно приподняв полог, он увидел ноги трех нервно переступавших лошадей. Оттолкнув Кенжекей на постель, он кинулся вон из юрты. Парохода, подходящего к берегу, он не заметил. Вскинув глаза, он первым узнал Танирбергена. Равнодушно посмотрев поверх Еламана, мурза повернул свое спокойное черноусое лицо к Федорову и слегка кивнул. «Да, он самый!»— означал этот кивок. Толмач с противным металлическим свистом вытащил шашку.
— А ну скажи, безбожник, сколько наших ты погубил после Актюбинска, а?! — закричал он.
Еламан выхватил наган и выстрелил. Толмач, так и не успевший взмахнуть шашкой, дернулся, вытаращил глаза и начал валиться из седла.
Из юрты с диким воплем выскочила Кенжекей. Она только мешала Еламану, и он опять оттолкнул ее. Тотчас дружно заревели ребятишки. Побледневший Еламан отскочил, и прямо перед его глазами молнией вспыхнула с силой опущенная шашка Федорова. Конь Танирбергена, всхрапнув, понес, и мурза вдруг очутился далеко в стороне от юрты. Он видел, как, в бешенстве охлестав тупым ребром шашки своего жеребца, поднявшегося на дыбы, Федоров опять кинулся к Еламану. Глухо тявкнул выстрел в степи, в то же мгновенье блеснула шашка. По спине Танирбергена пробежали мурашки будто шашка полоснула не Еламана, а его. Он моргнул, отвернулся, а когда опять поглядел в сторону юрты, увидел, что Федоров остервенело заворачивает норовящего унестись в степь жеребца, а Еламан, залитый кровью, бьется на земле, и тело его, содрогаясь, то сжимается, то опять вытягивается.