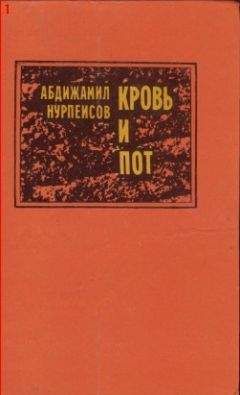— Ну?! Скоро колодец?
Танирберген быстро подобрал выпавший из рук повод. Конь понес его было вперед, но мурза натянул поводья, медленно повернулся и спокойно взглянул на рыжего офицера с кошачьими глазами. Отведя взгляд, он слегка ударил каблуком своего иноходца и, по-прежнему равнодушно сидя в отделанном серебром седле, стал глядеть вперед.
Не оглядываясь, он еще некоторое время чувствовал спиной ледяной кошачий взгляд разъяренного офицера и с печалью думал о том, как все-таки неблагодарны люди. С тех пор как, потерпев поражение под Аральском, белая армия начала свое отступление по пустыне, сын Шодыра и этот рыжий офицер возненавидели его, как будто он один был во всем виноват. Да и другие смотрели на него враждебно, и только благосклонность генерала Чернова сдерживала их. Его терпели еще потому, что без него им было не выбраться из этой пустыни.
Сначала мурза побаивался их и старался держаться поближе к генералу, потом ожесточился и затаил на всех злобу. Теперь же он стал ко всему равнодушен — и к злобе офицеров, и к отвернувшемуся от него счастью, и к своим несметным табунам на выпасах, и к ласкам жен на супружеском ложе, и к нещадно палившему солнцу, и к этому выгоревшему небу, ко всему белому свету. И жизнь свою он готов был теперь проклясть, и все был готов отвергнуть и отринуть. Измученная душа его жаждала покоя. Исстрадавшаяся плоть молила о глотке воды. Его преследовала навязчивая мысль о бадье с ледяной водой, только что поднятой со дна глубокого колодца, и он морщился сглатывая горькую слюну.
В последнее время он совсем перестал думать о хозяйстве. Даже о своем ауле, который, отправляясь в Челкар, он оставил на новой летовке возле Карала-Копа, он вспоминал мельком. Расставаясь с братом— софы, он предупредил его, чтобы они не трогались с места, пока не получат от него вестей. Теперь он с мимолетной досадой подумал, что аул слишком долго находится на одном месте и что всю траву вокруг уже, наверное, вытоптала скотина. Людный, богатый скотом аул утопает теперь, должно быть, в пыли… Да и вообще нынче лето выдалось жаркое, засушливое, поэтому земля скудна, трава на покосах выросла редкая, чахлая. Нелегкая зима ожидает скотоводов.
Но думал обо всем этом мурза вскользь. Не до хозяйственных забот ему теперь было, не это его занимало. Сегодня весь день он почему-то жалел изнуренных коней, с трудом переставлявших ноги в раскаленном песке. Думал он и о генерале Чернове, с которым вот уже столько дней ехал бок о бок, и до боли жалко ему было этого старого человека.
От самого Челкара Танирберген следил за Черновым. Нравился ему умный, сдержанный, немногословный генерал. Какая жалость, что познакомились они в недобрый час. Казалось, все беды на этом свете разом обрушились на голову генерала. Власть, которая поставила его над этими людьми, уже не существовала больше. Войско разбито. Вот это отребье — остатки его армии. Разве можно верить этим людям? Ха!
Очнувшись, Танирберген спохватился, что усмехается вслух и ему стало неловко перед офицерами, ехавшими рядом. Пустив коня рысью, он поравнялся с генералом. Чернов с надеждой посмотрел на мурзу, ожидая, не скажет ли тот ему что-нибудь утешительное. Угадав мысли генерала, Танирберген поспешно отвел глаза.
Они уже оставили позади места, где им должны были встретиться аулы, и, по предположениям Танирбергена, им сегодня вряд ли суждено было добраться до колодца. А завтра, наверное, начнут падать кони. Они и сейчас так взмокли, так запали мыльными животами, что мурза старался уже не замечать ни людей, ни коней, а смотрел прямо перед собой, в степь, в марево.
Безмолвна была дрожащая от жары степь. Безмолвны были и люди. И только измотанные кони время от времени фыркали и чихали, очищая забитые пылью ноздри. Все чаще и чаще спотыкались они то о кочки, то о корявые, обнаженные ветром корни полыни. Проваливаясь в сурчиные норки, они были уже бессильны вытащить ногу и припадали на колени, а всадники, понуро мотавшиеся в седлах, едва не вылетали через головы лошадей. Даже Танирберген, казалось, родившийся в седле, и тот сегодня еле-еле держался. То его кидало вдруг в сон, чего с ним в жизни прежде не случалось, то он расслаблял шенкеля, то начинал страшно мучиться от жажды.
Изболевшийся душой и телом, он то впадал в тупое оцепенение, то приходил в отчаянье. «Боже, боже, есть ли смысл во всех наших жизнях, стоит ли наша жизнь всех этих лишений и жертв? Нет, если вдуматься, чем дорожить? Небом над собою, или этим солнцем, или землей? Может быть, вот этой скрягой пустыней, в которой, как в обворованном доме, умирающий от жажды путник не может найти даже глотка воды? Великая правда в словах: «Лживый, обманчивый мир». Когда ты в отчаянье, во всем этом мире не остается ничего, за что ты мог бы уцепиться хоть ногтями. А когда для тебя иссякли его соблазны, ты уже не хочешь этого мира, но тебе от него так же трудно избавиться, как от опостылевшей старой жены в постели».
Танирберген так устал, что ему было все безразлично. Для него теперь было все равно — белые, красные… Даже к своему кровному врагу, которого он преследовал всю жизнь, он не чувствовал теперь никакой ненависти. Захотел бы он теперь его смерти? «Мне все рав-но!»— мог бы он сказать. Да что говорить, даже тогда, когда привел он сына свирепого Шодыра к одинокой лачуге на берегу моря, бог свидетель, не крови он жаждал. Ему хотелось увидеть, как его враг, никогда не смирявшийся перед ним гордец, будет трусливо молить о пощаде под обнаженным клинком, валяться в пыли у его ног. О, как насладился бы он его позором! Но и в свой роковой час не захотел покориться ему этот упрямец. В одно мгновенье был убит толмач, и взвихрилась отчаянная схватка. Что же произошло в следующие короткие вспышки времени? Побледневший до пота Еламан под сверкнувшей над его головой голой шашкой, дикий блеск его огромных глаз… Безумный, истошный вопль Кенжекей, выскочившей из лачуги и кинувшейся на помощь мужу… И пароход красных, приближавшийся к берегу, гулкий удар орудия с палубы, визг и разрыв снаряда, испуганно присевший его иноходец… Уже решив уходить, он повернул коня и хотел поскакать, а сын Шодыра, вне себя от ярости, нещадно хлеща тупым ребром шашки дрожащего своего коня, оставляя на пыльном его крупе темные полосы, оскалившись, бросился на Еламана. размахнулся… Заслонившись рукой, вытянув другую руку с револьвером навстречу Шодыру, Еламан отступил назад и потом…
Сивый иноходец мурзы, шедший ровной мелкой своей иноходью, вдруг всхрапнул и вздернул голову, собираясь шарахнуться в сторону. Очнувшись, Танирберген подался вперед, взглянул через голову коня и увидал прямо на своем пути под одиноким кустом красного тузгена тускло белевшие обглоданные кости, должно быть, не давно задранной волком крупной скотины. «Где-то поблизости расположен аул», — решил мурза. Привстав на стременах, он напряженно оглянулся окрест.
«Да что же это? Должны же здесь быть аулы!»— в отчаянии думал мурза. Он так долго вглядывался в раскаленный зыбкий горизонт, что глаза его заслезились. Кружилась голова. «Перегрелся!..»— решил мурза. Опустив плечи, склонив голову, он дотронулся рукою до виска. Вздувшаяся на виске жила трепетно билась под пальцами, и мурзе почудилось, что он вот-вот свалится с коня. Он качнулся в седле. Собрав все силы, он тряхнул головой и выпрямился. Потом долго растирал и поглаживал лоб и лицо. Головная боль немного утихла, осунувшееся лицо постепенно приняло свой обычный невозмутимый вид. Воспаленными глазами мурза опять обвел горизонт.
Выгоревшие бурые холмы, словно бурые волны, вал за валом уходили вдаль, растворяясь в дымке горизонта. Куда ни посмотришь, всюду однообразный бескрайний мир. Да полно, есть ли предел этому миру? И если есть, то где? Испокон веков эта унылая степь навевала только тоску на человека. А может быть, с самого сотворения мира в это безмолвное пространство не заглядывал ни один смертный? Может быть, даже имени этой пустыни нет на человеческом языке? Или это как раз и есть та самая пустыня Кер-бала, в которой погибли все потомки могущественного Азрет-Али?[24] Именно пустыня Кер-бала, воистину так! Как это говорится в киссе? Прежде он наизусть ее знал… Эй, правоверные, внемлите повести печальной Кер-балы… Повести печальной Кер-балы… А дальше? Как же дальше-то было? Вот и память иссякла, высохла в этом пекле. Несчастный Хусаин, самый несчастный из всех, с головой опустившийся в горести…
«Вот и наш генерал такой же горемыка, как и Хусаин. Черная отрава разлилась по его жилам, а он молчит. Душу его собаки терзают, а он виду не подает, непроницаем, как камень. Что же это такое? Избитые долгой дорогой люди без конца ерзают в седлах, перемещаясь поочередно с одной ягодицы на другую, а генерал день-деньской не шелохнется. Сколько ни смотри на него, ни разу не увидишь, чтобы он изменил позу, сидит будто аршин проглотил. В какую бы минуту ни взглянул на него, все он маячит далеко впереди еле волочащегося за ним войска».