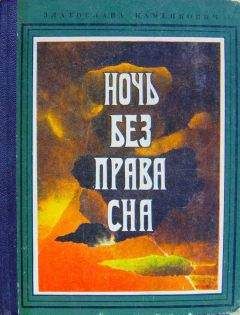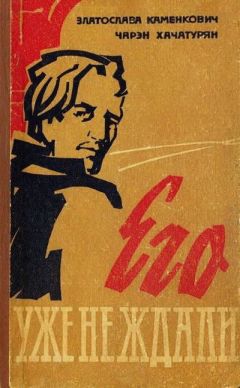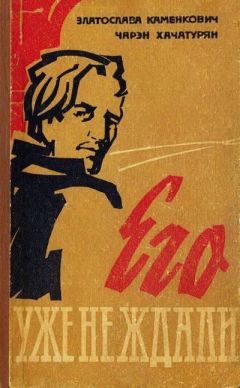С петлей на шее
Ярослав очнулся от сильного грома. Как темно и холодно… И в ушах этот ужасный шум… О, какая невыносимая боль в голове… Перед глазами позеленевшая стена из ракушечника. Кажется, колодец! Сверкнула молния, и сквозь шквал ветра и ливня послышался новый удар грома, точно свет и тьма вступили в поединок.
Ярослав с трудом приподнимает тяжелую голову и в сумрачном свете замечает узкое окно с двойной решеткой. «Боже мой, где я?» — силится вспомнить Ярослав, но, пронизанный жгучей болью, замирает… И нет сил, чтобы крикнуть.
Очнувшись, он с невероятным усилием открывает глаза и видит рядом пепельно-серое неживое лицо с полуоткрытым ртом, а через весь лоб розовеет шрам… Нет, ошибки быть не может, это Мишка… Крупные капли пота леденят виски, в горле стоит ком. Руденко откинулся назад, повернул голову и тут встретился с остекленевшими глазами Цезаря… И все поглощает тяжелый мрак…
Вместе с трупами его вынесли из мертвецкой, положили на землю, пока пригонят двух кляч с дрогами, чтобы отвезти на тюремное кладбище.
Земля дышит теплом, и Руденко, в котором чуть теплилась жизнь, почувствовал, что смерть, стоявшая у изголовья, отступила. Он даже ощутил на своей щеке прикосновение травинки, омытой дождем, и слабо застонал.
— Поглядите-ка, доктор, а этот ожил!
Больше недели Руденко лежит в тюремном лазарете. Палата узкая, длинная, пропитанная запахом йодоформа.
— Ну-с, братец, погостил у смерти, пора и честь знать, — дружелюбно говорит доктор.
Задержавшись возле койки Руденко, доктор в который уже раз вспоминал приказ коменданта тюрьмы: как можно скорее поставить на ноги «покойника». Таких приказов доктор еще не получал и поэтому был удивлен. А сейчас тоже странное распоряжение: всех из палаты на прогулку, оставить только одного «покойника». Некоторые больные только что после тяжелых операций, нельзя им вставать, но приказ есть приказ… Вышли все.
В палату вошли два охранника и стали по обе стороны двери, затем появился комендант, сверкая серебряными эполетами на мундире, безукоризненно подогнанном на его полную фигуру.
По знаку коменданта стража вышла и стала за дверью. Комендант грозно сел на стул. Самым дружеским тоном, на кокой был способен, он начал:
— Известно, братец, что с тобой… (хотел сказать: «снюхался») откровенничал вор Мишка. И ты знаешь, где он припрятал награбленные драгоценности…
Руденко не торопился с ответом.
— Искренность, братец мой, — как можно мягче продолжал комендант, — спасет тебя от виселицы, об этом похлопочет сам губернатор…
«С той же песней, что и Цезарь, — подумал Руденко. — Видно, Мишка унес в могилу свою тайну. Эта ситуация поможет выиграть время. Возможно, удастся связаться с товарищами на воле…»
Руденко обнадеживает: да, Мишка что-то говорил… сейчас он не может припомнить, болит голова. Но постарается вспомнить…
Проходят дни за днями. Руденко все еще «никак не может вспомнить». Постепенно к нему возвращаются силы. Доктор добр ко всем, но особенно к политическим. Хоть и знает, чем ему это грозит. Нет, вроде бы не рисуется, когда говорит, что никакой не суд, а верность клятве Гиппократа бросила его сюда, за трехаршинную толщу стен тюрьмы, чтобы хоть как-то поддержать дух несчастных… Чтобы не ожесточились еще больше, не озверели…
Как-то Руденко оказался последним на перевязке. Когда остались вдвоем, тихо сказал:
— Доктор, не согласились бы вы помочь мне в одном важном деле?
— Надеюсь, что святость чужого очага важна для каждого порядочного человека. Жизнь вещь хорошая, жаль, если ее у тебя отнимут.
Руденко понял, что означают эти слова. Обидно. Почему-то верилось, что доктор не откажет, рискнет встретиться с человеком, которому надо сообщить, что Руденко в Одессе, в тюрьме и ждет суда. Вот и все…
Доктор, видимо, желая смягчить свой отказ, сам подал Руденко костыли и проводил в палату.
В палате на одной койке по два-три больных. Тяжелые лежат на полу.
— Кто просится на выписку? — улыбается бодро доктор, хотя ему совсем не весело.
Никто не отзывается. Затем молоденький, из солдат:
— Чем обратно в камеру, лучше в мертвецкую!
За две недели уже девять случаев самоубийства…
Вскоре доктор удивил своей непоследовательностью. Улучив момент, когда в перевязочной остался только Руденко, он сообщил, что в Петербурге закончился крупный политический процесс 193-х. И хотя он проходил при закрытых дверях, сегодня на улицах Одессы какие-то люди, рискуя свободой, распространяют листовки с речью юриста Петра Александрова. Любопытство осилило, и он прочитал. Речь потрясающая! Особенно запали в душу слова, обращенные к обвинителю: «Потомство прибьет ваше имя к позорному столбу!» Сто человек оправданы…
— Вы очень порадовали меня, доктор. Спасибо!
Волна горячей радости захлестывает Руденко. Он знает, кто в Одессе может типографским способом печатать листовки и распространять…
Перелом в настроении доктора, вероятно, произошел после прочтения листовки. Уже несколько раз, оставаясь наедине, они вели доверительные беседы.
Доктор рассказал о сенсации в городе. По приговору суда казнили какого-то «вампира», который изнасиловал и убил девушку. Им оказался садовник фабриканта — владельца фирмы «Христофор и сын». Вся пресса вопит, что из-за этого изверга едва не стал жертвой необоснованного обвинения сын фабриканта.
— Ловко придумали! — изменился в лице Руденко. — Лихо, лихо замели следы!
Узнав правду, привыкший ничему не удивляться доктор так разволновался, что был вынужден принять сердечные капли. Это он позволял себе лишь в крайних случаях.
Вскоре доктора вызвал комендант тюрьмы и мрачно приказал:
— Политического Руденко-Ясинского на выписку!
— Он очень тяжелый… — начал было доктор.
— Он — собака на сене! Вы же знаете историю похищения у княгини фамильных драгоценностей? Неужели этот авантюрист питает надежду, что сможет воспользоваться ими? На том свете! Полная гарантия, что его казнят! Давно бы и суд состоялся, по я обещал князю…
В последний раз передайте этому негодяю, что даго ему два дня срока на то, чтобы вспомнил!
— Нет, парень не посвятил меня в свою тайну, — разводит руками Руденко перед доктором.
— Да-с, квадратура круга, — мрачно промолвил доктор. — От коменданта всего можно ждать…
— Доктор, вы должны помочь…
— Должен?
— Что сегодня считается государственным преступлением, скоро неизбежно станет высочайшим подвигом гражданской доблести. Люди подхватят, как знамя, уже брошенный в мир клич «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Только не всем суждено дожить до этого светлого дня. Те, кто дал вам листовку, — это мои соратники. Честно говоря, не надеюсь, что мне удастся дожить до суда. Но я напишу «Последнее слово обвиняемого», и вы передадите кому надо.
Руденко видел глаза доктора, его лицо и понял: молчание означало согласие.
Огромная жажда жизни и несгибаемое мужество человека, которого «отпустила сама смерть» (здесь уж постарался доктор), внушала уголовникам суеверное преклонение перед ним. В какую бы камеру его не бросили, стража доносила коменданту: «Все еще живой»…
И вот настал день суда. К этому часу Руденко давно себя готовил и был во всеоружии. Он отказался от защитника.
Напрасно судьи надеялись, что за закрытыми дверями судилища никто не узнает, как человек, облаченный не в мантию, а в арестантское рубище, будет судить их. Атакует, загонит в тупик яростной правдой о «доме ужасов», отождествив его с самодержавным строем России.
Об этой правде будет молчать бульварная пресса, зато в рабочих кварталах о ней узнают. Многие помнят типографского наборщика Ярослава Руденко, верят ему. И люди труда задумываются, не ждет ли их сыновей трагическая Мишкина судьба.
Судьи в долгу не остались. Приговорили Ярослава Руденко к смертной казни через повешение.
…Священник и доктор стоят рядом. Доктор бледен, будто это его ведут на казнь. Как хочется сказать ему доброе слово! Но доктор сможет подойти только тогда, когда нужно будет засвидетельствовать смерть…
Приближается священник с поднятым крестом.
— Сын мои, ты наказан за содеянное тобой, но молитва и покаяние…
Руденко останавливает священника:
— Я неверующий.
За железными воротами послышалось ржание лошади. Опоздай гонец всего лишь на минуту, и Руденко болтался бы в петле. В честь окончания войны и победы России над Турцией смертная казнь ему заменялась бессрочной сибирской каторгой.
У Анны родился сын, здоровый, горластый. Хотя пани Барбара и сокрушалась, что уж очень он худенький, Анна не могла нарадоваться на ребенка. Обычно задумчивое и грустное лицо молодой матери озарялось гордостью, когда она глядела на сына, безмятежно спящего у ее груди.