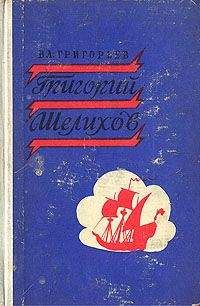Якобия в Иркутске не любили еще и за то, что он, высказывая свои воинственные замыслы против Китая, противодействовал возобновлению в Кяхте русско-китайской торговли, к которой население Иркутска, от больших до малых людей, давно уже приспособилось всем своим экономическим укладом.
Начальник прикрывающей Кяхту Троицкосавской крепостцы и блюститель кяхтинского торга с русской стороны майор Перфентьев, старый служака из сибирских солдат, набрался смелости оспаривать потребованную Якобием огромную сумму «интереса» в торговле России с Китаем. Поддержанные Перфентьевым, русские купцы осмелели и сказали: «Таких денег нам не поднять». Тогда Якобий, сочтя вопросы своего личного благосостояния делом все же «не казенным», настаивать на взятке не стал, а принялся бомбардировать Петербург своими донесениями о подготовке Китая к войне с Россией: «Из Индии уже и слоны приведены и под Кяхтой спрятаны».
Внимание царицы было поглощено Ближним Востоком и Польшей, — здесь пролегала кратчайшая и легкая дорога к обмену хлеба на новинки и моды культурных народов Запада.
— Какая там война с Китаем!.. Дуроломит Якобий! — отмахнулись в Петербурге, но на всякий случай послали инструкцию: усилить гарнизон Троицкосавской крепостцы батальоном солдат и двумя сотнями из уральских — после Пугачева — ссыльных казаков.
Получив это неожиданное распоряжение, правитель канцелярии Селиванов удивился — «с чего бы сыр-бор загорелся?» Но вскоре разведал дело, съездил под каким-то предлогом в Кяхту, убедил Перфентьева написать в Петербург об истинной подоплеке донесений Якобия «о готовящемся к войне Китае» и сам одновременно отправил письмо в Москву семейству Соймоновых о «немецкой механике» своего патрона. Часы пребывания Якобия у власти были сочтены…
— На наших даяниях немец не только живет, но и музыку содержит, и нас же еще по миру пустить собирается, — возмущались иркутяне, ища способов свалить чужеземца-сатрапа. — Музыку, твердит, люблю, а музыкантов своих побираться посылает…
Генерал-поручик Якобий, немецкий ландскнехт, появился в России в бироновские времена. Для поправки расстроенного состояния он на склоне лет выхлопотал себе назначение в Иркутск. Привезенный губернатором оркестр из сорока крепостных музыкантов стал для него воспоминанием о бироновском раздолье, пользуясь которым он присваивал себе имущество множества загнанных в Сибирь раскольников и людей более высокого звания.
Якобиевские служители Эвтерпы[23] и впрямь бродили по Иркутску голодные, в поношенных долгополых казакинах, с вышитой на груди эмблемой многотрудного искусства — желтой флейтой.
— Исполняйте «Stabat mater»[24] великого Перголезе, и она вас всегда накормит! — напутствовал своих выучеников якобиевский капельмейстер синьор Реббиа, отпуская их тайком от хозяина «играть перед кем ни придется». — А деньги потом пополам…
На кормление синьор Реббиа жаловаться не мог — как иностранец и маэстро, он пользовался правом кушать на нижнем конце губернаторского стола, но в деньгах всегда нуждался; генерал-поручик забывал платить ему жалованье, так же как крепостным музыкантам выдавать месячину.
После нескольких крупных скандалов на почве увлечения купеческих дочек генеральскими музыкантами, среди которых было немало молодых к талантливых людей, пред якобиевскими скрипками и флейтами закрылись двери богатых иркутских домов. В кабаках посадов и знаменитых пригородных «хмельниках» по берегу Ангары, где приходилось теперь музыкантам играть перед простонародием, патетическую «Stabat mater» слушали внимательно и серьезно, после чего кидали в брошенную на пол шапку медные пятаки.
Но домой музыканты возвращались с пустыми карманами и пьяные. Синьор Реббиа сердился и грозил не пускать их больше в город.
— Сарынь на кичку! Не иначе, братцы! Придется по купеческим амбарам пошарить, чтобы дракона нашего Репья ублаготворить, — подал мысль Яшка Цыганенок — лучшая скрипка оркестра.
Для этой цели облюбовали прежде всего амбары Шелихова, славившиеся в Иркутске вывезенными из заморских стран богатствами. Много дней похаживали вокруг да около шелиховских строений, высматривая и набираясь храбрости. И как раз через два дня после размолвки морехода с компанионами сторожа усадьбы приволокли к Шелихову рано утром нескольких изрядно побитых музыкантов губернатора. Их поймали с поличным в ночной час, когда они подкапывались под стены кладовой, заваленной мехами.
Григорий Иванович сидел за столом в гостевой трапезной, самой большой комнате дома, пестро украшенной заморскими привозными диковинками, и хлебал наваристые щи с кашей, заправляясь, как он говорил, на дневную вахту — рабочий день от зари до зари, а то и до полуночи, если дня не хватало. Ел он по усвоенной в странствованиях привычке много, но не часто — два раза, а то и раз в день. «Неохота за столом жизнь проедать, — примирительно отводил он упреки Натальи Алексеевны, стремившейся вкусными блюдами — ему она всегда готовила сама — удержать его за столом подольше.
— Тятенька, людей, что по городу с дудками ходят, амбарные приволокли, — ворвались в комнату дочери Шелихова Аненька и Катенька. — Страсть смотреть какие — битые, в грязище вывалянные, а в руках скрипицы держат и дудки такие же, как на груди нашиты, только черные… У одного, чернявый и красивый собой, под глазом синячище… Ух, просто жаль его! — с огорчением вырвалось у старшей Аненьки. — Ты прикажи их не бить и отпустить.
— Что приключилось? Кого привели? С дудками, говоришь? Ф-фу, вот не было печали, так черти накачали! — обеспокоено оторвался Шелихов от щей. — Ты не егозись, Анка, что битые… А кого же бить-то, как не шпыней? Скажите там, чтоб пред меня доставили, и сами… бр-рысь отсюда!
— Тятя, ты скажи только, чтоб их здесь не били, не надо! — настойчиво кинула старшая — Аннушка, уносясь передать распоряжение Григория Ивановича. — Маменька… — просительно взглянула она, исчезая в дверях, на Наталью Алексеевну.
— Ладно, хлебом-солью встретим, — усмешливо мотнула головой Наталья Алексеевна. — В тебя, Гришата, дочки — не терпят изгальства над людьми… Да ты ешь, хлебай щи-то, губернатору таких не едать!
— Нескладное дело получилось, а может, добрый случай, — неопределенно и недовольно пробурчал Шелихов. — Сыт по горло, Наташенька, хочу и на закуску взглянуть… Входите, входите, тащите рыбешек! — крикнул он, услыхав за дверями голоса людей и сердитые окрики на них амбарной стражи.
— В полицию отправить или запросто в шею накласть и за ворота выбить? — косясь на хозяина, спрашивали сторожа, возбужденные сопротивлением незадачливых воров.
— С полицией хлопот не оберешься, — в раздумье сказал Шелихов, оглядывая оборванных, измазанных глиной музыкантов, бережно прижимавших к груди чудом уцелевшие в пылу драки флейты, фаготы и скрипки. — Губернаторские молодчики! Хороши!.. За свое, вишь, как держатся, а на чужое зарятся! — усмехнулся Григорий Иванович.
— Еще бы! — с горечью, но смело отозвался Цыганенок. — Разбей мне ваши мужики эту штучку — кремонская, Аматия, ей и впрямь цены нет, — генерал с моих костей мясо спустит! Инструментами-то он больше, чем нами, хвалится. А так как мы вот два дня уже не жравши, то тут хоть куда полезешь!..
Шелихов посмотрел на него и встал из-за стола.
— Ладно! Я сам обормотов генералу доставлю, — сказал он. В голове морехода мелькнула неясная мысль обернуть этот нечаянный случай в свою пользу. — А пока сведите в людскую да накормите хорошенько… за сбережение генеральского добра… — снова усмехнулся он.
— И впрямь, господин купец, по-людски рассудили, — повеселел Цыганенок. — Не выдержать нам порки генеральской, ежели щец не похлебаем и кашей пуза не набьем… Эх, и сыграем же и спляшем мы на последях, как под кнут ложиться! — подмигнул он попавшим в беду товарищам.
— Иди уж, иди, набивай брюхо, — просипел сторож, беря его за рукав. — Гляди только, чтоб не лопнуло, как придется ответ держать.
Дочери Шелихова пробрались снова в комнату и, безмолвно притаившись за спинами людей, с любопытством разглядывали губернаторских музыкантов, о проделках которых по городу носились зазорные слухи.
Анюта с застывшей в глазах слезкой огорчения, сожалея, вглядывалась в изуродованное подглазным синяком красивое и смелое лицо Цыганенка. Смешливая Катенька, взглянув на скособоченный рот избитого музыканта, подмигивавшего ей, не выдержала и прыснула от смеха.
— Убирайтесь отсюда! — крикнул Григорий Иванович, услышав их горошком просыпавшийся смех. — Взаперти держать буду неслухьяных!..
Амбарные сторожа поняли разгневанный выкрик хозяина как поощрение к тумакам. С поспешной ретивостью, обозленные недавним сопротивлением задержанных при подкопе амбара, они мгновенно вытолкали музыкантов за двери комнаты, еще мгновение — и на крутой лесенке, спускавшейся в людскую, послышались приглушенные голоса сторожей и грохот тел, скатывавшихся по ступенькам лестницы.