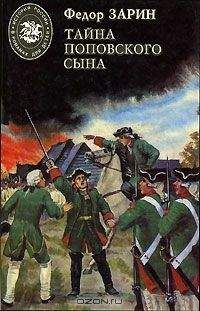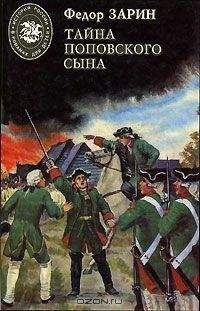«Скорее бы вперед!» — подумал он, и ему вдруг захотелось велеть ударить в набат, заиграть трубам поход и во главе своих необузданных полчищ полететь в эту загадочную даль, озаряя свой путь пожарами…
«Когда будет воевода царский и кто он таков? — думал князь. — Только бы скорей, скорей!»
Вдали загрохотал гром. Князь перекрестился и тихо вернулся домой. Спать ему не хотелось. Выпитое ли через меру вино, разговоры ли с Телятевским и Истомой или просто душная грозовая ночь были тому причиной, но князь, поворочавшись беспокойно на своей постели с полчаса, снова встал, велел зажечь побольше свету в столовой палате и позвать к себе начальника его караулов, молодого Темрюкова.
Через несколько минут Темрюков входил в комнату, он только что вернулся с обычного разъезда.
— Здравствуй, Иван Петрович, — ласково приветствовал его князь. — Садись, друг, что нового?
Молодой человек поклонился молча князю и сел к столу.
— Что бледен-то ты, а? Притомился, что ли? — спросил князь.
— Притомился, боярин, — глухо ответил Темрюков. — Прикажи вина дать.
Князь сейчас же хлопнул в ладоши и приказал вошедшему дворецкому подать вина.
Темрюков сидел опустив голову. Это был молодой человек лет двадцати двух, высокий, широкий в плечах и тонкий в стане. Черные густые волосы его были коротко острижены, орлиный нос и большие мрачные, черные глаза говорили о решительности и отваге, черные, небольшие усы оттеняли его красивый рот, верхняя губа была несколько коротка, и из-под нее были видны крепкие, белые зубы, что придавало лицу Темрюкова несколько хищное выражение. В настоящую минуту его смуглое лицо было утомлено и бледно, глаза носили явные следы бессонных ночей. На необыкновенно белом лбу виднелась глубокая продольная морщина. Темрюков был с недавних пор любимцем князя. Не было поручения, какого не исполнил бы с успехом молодой человек.
Надо ли было что прочитать или написать по-русски или по-польски, никто при князе лучше не мог сделать этого. Успокоить ли расходившуюся толпу, укротить взбунтовавшихся, сделать отчаянную поездку в степи на разбойничью шайку — все ему удавалось легко, словно шутя. Он не жалел себя, но не жалел и своих людей и попавших ему в руки разбойников или татар. Посадить на кол или повесить он считал шуточным делом. Бывало и получше. Месяц тому назад он выследил и поймал в степях страшного разбойника, татарина Турыню, которого все боялись пуще огня. На его шайку боялись идти даже целым отрядом, десять на одного. Турыня не знал сострадания даже к детям, которых он после попойки расстреливал из лука.
С безумной дерзостью напал на него Темрюков и захватил живьем, подстрелив под ним зачарованного коня. Весь Путивль содрогнулся, когда Темрюков приказал с живого Турыни содрать кожу. Ужас охватывал разбойников при вести, что на них выступал Темрюков. Он ловил их, топил, вешал, зашивал в волчьи шкуры и травил собаками.
Темрюков принадлежал к древнему татарскому княжескому роду. Но его прадед при царе Иване III перешел к русским, был пожалован званием боярина и верно служил своей новой родине. Его внук мужественно дрался под стенами Казани рядом с Грозным царем. Дети этого казанского героя, казалось, забыли уже свое татарское происхождение, поженились на русских боярышнях и породнились с родовитейшими фамилиями России, с Ощерами. Иван был последний из Темрюковых. Его отец был замучен и казнен Иваном IV по подозрению в сношениях с крымцами. Отчасти своим лицом с чуть-чуть выдающимися скулами, но больше своей жестокостью, отвагой и необузданностью Иван походил на одного из своих диких и свирепых предков, воспетых в татарских песнях. В нем в полной мере выразилась и дикая звериная хитрость его мужских предков, и львиная, чисто русская удаль и отвага.
— Пей, Иван Петрович, — произнес князь, наливая Темрюкову принесенное вино.
— Благодарствую, — ответил молодой человек, принимая с поклоном чару из рук князя. — За твое здоровье, Григорий Петрович! — и он духом опорожнил чару.
На утомленном лице его выступил румянец. Князь налил ему снова.
— Ну что видел, говори?
— Да все то же, князь… Портятся людишки, похода ждут, со скуки да спьяна уж друг друга резать стали, — ответил Темрюков, — да и вправду тошно так-то околачиваться. В вотчине у себя и то было веселее.
— Ничего. Ванюша, потерпи, — улыбнулся князь, — молод, горяч ты, словно конь необъезженный. Вот дай время, приедет царский гетман, медлить не будем. И самому мне, коли правду сказать, нудно становится. Ну, а коли замедлится гетман, без него пойдем.
— Вот это дело, — промолвил Темрюков, — а то, того и гляди подойдут царские воеводы.
Князь озабоченно потер лоб.
— Пан Свежинский давно писал, что царь князя Воротынского к Ельцу нарядил, — продолжал Темрюков, — а сам знаешь, что при нашем расстройстве выйти из этого может.
— Ну, с Воротынским-то беда не велика, справимся, — пренебрежительно промолвил князь. — А вот что невдомек мне, почему это пан Свежинский пишет, что самого страшного пока ему удалось на Москве удержать, да боится, что ненадолго.
— Кого это? — спросил Темрюков.
— Да князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, племянника царского… Пишет, что он Москву и царя спас… Диво, ей-богу! Знаю хорошо Михаила Васильевича. Умен, это точно, должно, и храбр, Шуйские, хоть и воры есть между ними, а все же за себя постоят. Храбрости знаменитой… Да еще молод он, тебя, пожалуй, моложе будет, нам ли бояться его?
— Пан Свежинский даром не напишет, — угрюмо ответил Темрюков, — всякого человека этот бес (не к ночи будь помянут) словно насквозь видит.
Шаховской задумался, задумался и Темрюков, мрачно и сосредоточенно продолжая пить чару за чарой и все не пьянея.
— Как здоровье боярыни Федосьи Тимофеевны? — прервал князь молчанье.
Густая краска залила лицо молодого человека.
— Здорова, — тихо ответил он.
— А боярышня? — продолжал князь. Темрюков с отчаяньем махнул рукой.
— Что, не сдается? — полунасмешливо, полуучастливо спросил князь.
— Хуже разбойника считает, видеть не хочет, слышать не может, — прерывающимся голосом заговорил Темрюков. — Мать Иудой, Иродом, Каином величает меня. — Темрюков схватился за голову. — Не отдам ее Сеньке, не отдам, — сквозь стиснутые зубы с отчаянием и бешенством произнес он.
Темрюков после казни отца воспитывался в семье Ощеры вместе с Семеном и сироткой Ксенией Ахметовой. Его жуткие подвиги внушали Ксении страх, и кипевшая в нем любовь к девушке не встречала сочувствия. Но он не терял надежды добиться его.
Молнии сверкали все чаще и чаще. Все ближе слышались раскаты грома. Ветер крепчал. Все живое притаилось в степи по своим норам и гнездам.
В верстах пятнадцати от Путивля шажком подвигался к городу по степи небольшой отряд, человек в пятьдесят. Стук копыт заглушался высокой и мягкой травой. Только удары грома да шум травы под налетавшим ветром нарушали глубокую тишину степи.
Впереди отряда ехал всадник, очевидно начальник, судя по тому, что остальные почтительно сдерживали своих коней, чтобы сохранять известное расстояние между ним и собою. Въехав на довольно высокий холмик, передний остановился. Тотчас же остановились и другие. Несколько минут он стоял неподвижно, напряженно всматриваясь в даль, потом повернулся и отрывисто приказал:
— С коней!
В одно мгновение отряд спешился. Едва первый успел вынуть ногу из стремени, как к нему подскочили двое и почтительно сняли его с лошади.
— Пану гетману разбить шатер? — послышался из темноты чей-то хриплый бас.
— Не надо, — ответил тот, кого называли гетманом. — Запалите костры, чай, поесть хотите, да и веселее будет.
Человек двадцать мгновенно рассыпались по степи и Бог весть откуда натащили сухого мелкого кустарника.
Скоро запылали костры. Для гетмана разложили костер поодаль, накидали около ковры и шитые подушки. Гетман сбросил с плеча леопардову шкуру, что было в моде носить среди польских рыцарей, отстегнул саблю, вынул из-за пояса два пистолета и опустился на ковры. Сопровождавшие его люди разместились у соседних костров, пустив на волю своих нерасседланных коней.
Все люди были хорошо и даже нарядно вооружены и одеты в богатые польские костюмы, хотя, судя по их говору, все они были русские. Гетман вытянулся во весь рост, снял легкий шлем и лег на спину, положив руки под голову. Один из отряда тихо накрыл его ноги леопардовой шкурой.
— Товарищи, — громко крикнул гетман, — пойте, пейте, веселитесь, вы не мешаете мне!
Люди сразу оживились, загалдели, послышался смех, а гетман погрузился в задумчивость, устремив глаза на темное грозовое небо. Яркий свет костра падал на его суровое, молодое лицо. Не надо было особенной наблюдательности, чтобы увидеть на этом лице следы долгих страданий и жизненных невзгод. Этот человек был давно ожидаем в Путивле, гетман всех войск царя Димитрия Ивановича, Иван Исаевич Болотников. После долгой, исполненной опасностей, приключений и страданий жизни на чужбине он снова возвращался на родину, в те места, где протекло его невеселое детство, но все же дорогое по воспоминаниям о ласках матери и ее слезах над ним, по этим воспоминаниям чего-то столь чистого и светлого в человеческой жизни, что не повторяется и не забывается. Сладкая грусть сжимала его сердце, незнакомое чувство подступающих радостных слез смягчило его суровую, закаленную в бурях и бедах душу. Ему хотелось крепко прижаться грудью к родной земле и целовать ее, забыв все обиды, перенесенные на ней.