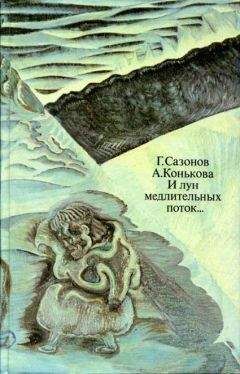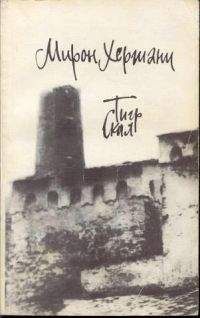Старик Лозьвин корявыми пальцами разомкнул Ульке рот и сильно дунул в ноздри. Улька не шевельнулся, Тогда Лозьвин перекинул Ульку на живот, крепко сжал ему ребра.
— Прыгни ему на спину! — приказал он Максиму.
Мальчик подпрыгнул на спине неподвижного Ульки раза три, а на четвертый тот вздрогнул. Улька забился на песке, из ноздрей, из горла, пузырясь, рванулась вода. И вместе с водой хлынула кровь.
— Студит его река, — прохрипел старик Лозьвин. — Запретить ему входить в реку голым. Пускай он на берегу да в лодке живет.
— Да станет так! — кивнули старики, шевельнулись и не успели погрузиться в дремучие свои думы, как пронзительно, испуганной чайкой крикнул Максим.
— Ы-ы-у, Ёлноер! — ругнулись старики и оглянулись недовольно: почему мальчишка вспугнул их неторопливые мудрые думы?
Из раскаленного до медного сияния душного сосняка то ли выползало, то ли выплывало к реке лохматое скрипучее существо. Максим застыл: из колыхания горячего воздуха по ломкому, хрупкому, высохшему до треска ягелю к нему приближался непонятный, невиданный старик. А может быть, то Вор-Кум? Может быть, то Вор-Кум, непостижимый оборотень? Максим закрыл глаза, погрузился во тьму и медленно раскрыл их снова. Нет, старик не исчез, не развеялся, к нему торопились старейшины, путаясь в долгополых легких дошках. Они почтительно приближались к старику, опускались на колени и распластывались у его ног, вытянув вперед руки, раскрывая ладони. Страшен Максиму неведомый старик, угасли мальчишечьи голоса, притихла река, и синеватый дымок от костра бездыханно повис в воздухе. Старик виделся мальчику как опавший, сожженный морозами и солнцем лес, даже не лес, а его обнаженные на земле корни. Но он не гляделся умирающим, просто высох от древности, остались одни витые жилы. Голову старика покрывала высокая остроконечная, как зимний чум, шапка из гладкой выдры. Темное, словно глина, лицо старика рассекали глубокие морщины, будто трещины на шершавой коре кедра, но из-под бровей, густых и жестких, как бурундучьи хвосты, высверкивали твердо — лезвием ножа — прозрачные глаза. В ушах старика с легким рассыпчатым звоном покачивались золотые серьги — страшные чешуйчатые звери, длиннохвостые, с распахнутыми пастями и свирепыми длинными когтями. Высохшую шею старика обвивали бусы из зеленого и синего камня, и, остро разбрасывая свет, вспыхивали бусины. В цепкой, как совиная лапа, руке старик держал железную палку, изукрашенную зверями и птицами, и заканчивалась палка острым, как клюв, крючком.
— Встаньте! — неожиданно густым и глубоким голосом пророкотал старик, и Максим поразился той силе, что обитала в немощном на вид теле. — Встаньте, сыны мои!
Старейшины живо, словно омолодясь, вскочили на ноги, приблизились к старику и уважительно взяли его под локти.
— Здравствуй, долго живи, светлый, мудрый мужчина! — поклонился Лозьвин. — Долог твой путь, великий отец! Легка ли твоя тропа, Страж Конды?
Страж Конды медленно подошел к огромному кедру, под которым тлел костер, и опустился на гладкий, выпирающий из земли корень.
— Всегда легка тропа к добрым людям, — глухо пророкотал Страж Конды и принял из рук Лозьвина ватланчик с пысой — белой, легко пенящейся брагой. — Ты высок и гибок, сын мой. У тебя твердый глаз и чистое лицо. Ты, наверное, из рода Лозьвиных?
— Да, Страж Конды! — ответил старик Лозьвин.
— Я помню твоего отца еще мальчиком, — сказал Страж Конды и отвязал от пояса замшевый мешочек, кожаную кису, где хранились трубка и огниво. Он протянул кисет Лозьвину, тот вынул трубку и осторожно принялся набивать ее табаком. Максим приблизился вплотную к кедру, и чуткие ноздри его защекотал пряный, чуть дурманящий запах. — Помню твоего отца, — повторил Страж Конды. — Он вырастал отменным наездником. Он знал лошадиное слово, разговаривал с конем, и тот покорялся ему, как туча ветру. Как сейчас живет твой отец? — спросил Страж Конды и принял из рук Лозьвина раскуренную трубку.
— Мой отец уже шесть зим охотится с верхними людьми! — ответил старик Лозьвин. — Там, — он поднял руку вверх, — там, под теплыми ветрами, он пасет табуны белопенных коней.
Страж Конды несколько раз глубоко затянулся из трубки и передал ее старикам. Те, причмокивая, глотнули пряного дыма, и глаза у них заблестели.
— Ты идешь к нам в селение, Страж Конды? — тихо спросил его Лозьвин. — Вот твои лодки, вот наши руки. Мы перенесем тебя на тот берег.
— Пусть сюда придут старейшие всех родов, — прогудел Страж Конды, и тоненько прозвенели серьги-звери. — И зрелые мужчины пусть придут сюда!
Один из стариков бросился в лодку и оттолкнулся веслом, второй вынул из костра раскаленную головешку и сунул в груду плавника на берегу. Дым высоко столбом вкрутился в дрожащее от зноя небо.
Вот тогда-то старик, Страж Конды, заметил Максима и властно подозвал к себе.
— Ты не боишься водяного зверя, ты храбр! — сказал Страж Конды. — Я видел: ты плаваешь рыбой! Кто отец твой?
— Мой отец Картин, — прошептал Максим.
— Вот ты мне и нужен! — прогремел Страж Конды. — Иди сюда!
Точно связанный, спутанный по рукам и ногам, с гулко бьющимся сердцем приближался Максим к Стражу Конды. Старик ощупал плечи и руки Максима, приложил волосатое ухо к груди мальчика, заглянул в уши и остался доволен.
— Уйдешь со мной! — повелел Страж Конды.
Слабеющей рукой долбит и остругивает Максим Картин острым топориком кедровую стволину, что мужчины пригнали с верховьев Евры. Семь дней и еще один день он разжигал на ней костры, и негромкий, но жаркий огонь с легким хрустом поедал кедровую мякоть, доставая сердцевину. Внуки помогали деду, следили за огнем, чтобы тот не прокусил борта огромной и крепкой лодки.
О! Какая то будет лодка! Почти как маленький дом, ни у кого в Евре не будет такой лодки!
Глядите, люди, глядите! Она сейчас дымит, как огромная трубка!
Глядите, люди, старый дед обнажил у лодки бока!
Смотрите, как они розовеют, какие узоры показывает могучий кедр. Дед уже заострил у лодки нос, и она стала как щука.
Но знал старый Картин: не плавать ему на этой лодке, ибо явился в его сны Страж Конды и сказал: «Уйдешь со мной!..»
«Глядите, лю-ди-и! — пронесся крик над Еврой, над теплым песчаным берегом. — О Великое Небо! Души покинули старого Картина, поднялись над землей и одичало бродят».
О Милый Шайтан! Рыдайте, люди, рыдайте, дети и женщины, рыдайте, звери и птицы, рыдай, земля, рыдайте, тучи, — в верхнее царство уходит хранитель капища Максим Картин.
На крутом берегу Евры в белой девичьей опояске берез поднимался могучий кедрач. Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени. Солнечный свет полосами, широкими лентами прорывался сквозь мохнатые лапы, и, падая под ноги кедров, рождал легкую голубоватую дымку над хрупкой нетронутостью ягеля, и высвечивал упругие, жесткие ладони кустиков брусники. В просторной осветленности, в хвойной чистоте покоилось древнее мансийское кладбище. Десяток рядов — маленьких приземистых домиков. Самой длинной была улочка Чейтметовых. От нее неподалеку начинался ряд рода Картиных со своим поминальным костром.
Близкие родственники вырыли могилу: сыновьям и братьям закон не велит прикасаться к острым вещам, чтобы не поранить души умершего. Максима Картина хоронили в той лодке, что не успела прикоснуться к вольному простору реки. Рядом с ним положили копье, тугой лук и стрелы, боевую дубинку и нож — пригодятся они хранителю капища в долгом, опасном пути в верхнее царство. На деревянных блюдах положили еду и питье, хлеб и сушеную рыбу, вяленое мясо — не голодай. Положили одежду и обувь — не мерзни. Положили трубку и табак — да пусть легка будет твоя тропа! На пять лет твой род погрузится в траур — пять душ у мужчины, и помянут их каждую поминальным костром и пиром. Да пусть навечно хранит память о тебе Великое Небо!
4
В своем доме Апрасинья уже ни перед кем не закрывала лицо, — старый Картин умер, одарив ее золотыми серьгами жены и обкуренной трубкой. С утра до позднего вечера она возилась с детьми, со щенками, которых выращивала от породистых няксимвольских и вогульских лаек, с телятами от трех коров — выпаивала их ухой, куда клала мелко рубленную сочную траву, возилась с оленятами и прижившимся лосенком. Во дворе ее три лета жили два лебедя — лебедь и лебедица, высидели яйца, вывели лебедят.
К Апрасинье прибегали в полночь, поднимали с постели, умоляли в слезах помочь роженице или старухе, что уже три дня никак не может умереть. Она зажигала свою трубку, хрипло прокашливалась, забирала сухие травы, толченные до порошка или настоянные на белом вине или на березовом соке, на рябиновом или клюквенном отваре. Возле большой избы Мирон срубил мань-кял — небольшую избушку, стены и пол которой Апрасинья затянула выделанной мягкой и гладкой берестой, — то была избушка женщины, куда она уходила рожать, отдохнуть перед родами, побыть наедине в чистоте и радости материнства. Вся избушка была забита разными травами от любой хвори — от припадков, острого живота, поноса, судороги, от икоты, от тоски, когда человек перестает любить жизнь, когда у него вдруг затухают глаза и он гниет на корню, как береза среди болота — стоит белеет береста, а внутри труха и гниль…