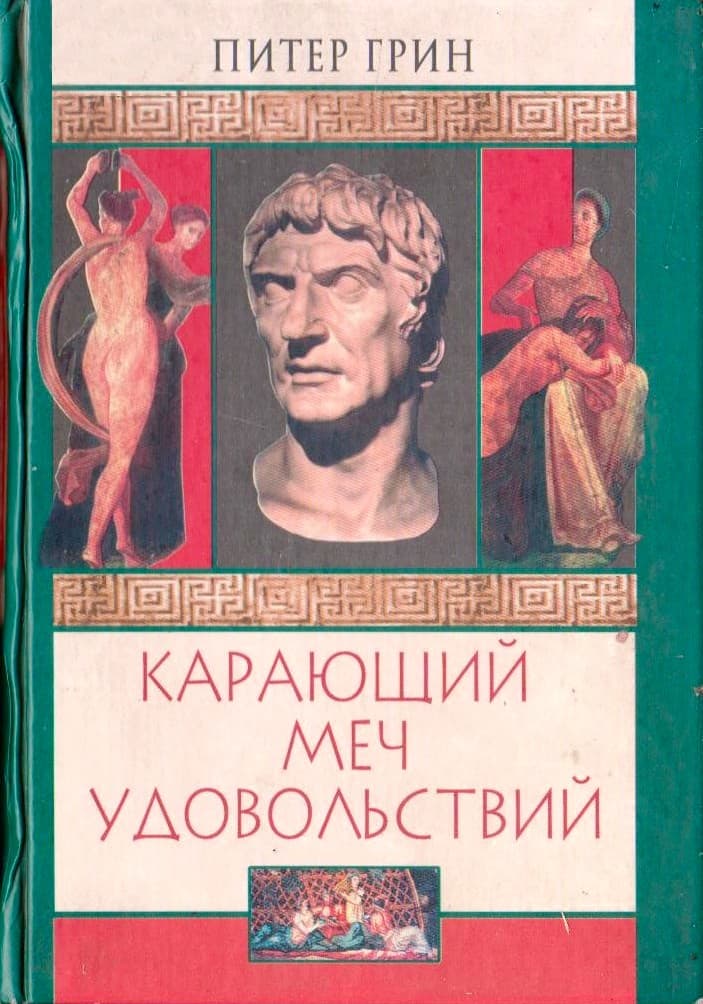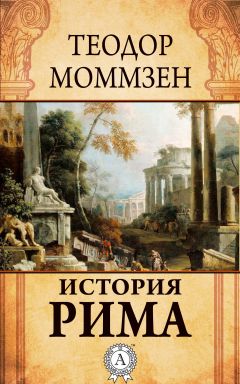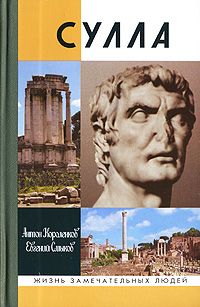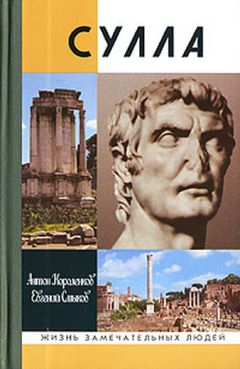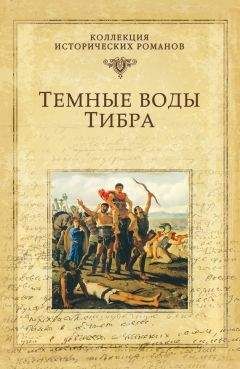дом с его напряженной тишиной, казалось, осуждал меня. Рабы говорили тихими голосами. Умерла не только Элия.
По мере того как мой ум медленно успокаивался, я стал ощущать настоятельное желание, которому больше не мог противостоять, — вернуться к Никополе. На этот раз ночь была темная и облачная с надвигающейся в воздухе грозой. Я сунул под плащ тяжелый кинжал. Страж у дверей поприветствовал меня, когда я прошел, и я спиной почувствовал его любопытный взгляд — он знал, куда я иду, и был оскорблен и одновременно удивлен.
«Это будет неплохим поводом для сплетен, — угрюмо думал я, шагая по улице. — Пусть себе думают, что хотят».
Однако позднее Никопола не была столь же безразличной, как я. Она выслушала в молчании, как я умолял ее жить со мной открыто, заботиться о Корнелии, оставить жизнь, которую она вела до этого. Это были прерывистые, наивные речи. Когда мои неуверенные заикания замолкли, она, сказала очень ласково:
— Луций, мой дорогой, не будь глупцом. Мне сорок один год. Я была куртизанкой всю свою жизнь. Такой поступок разрушит твою карьеру еще до того, как она началась. Ты вернешься в свой дом, когда я закончу говорить с тобой. Ты помиришься со своим отцом и его женой. Она позаботится о Корнелии и одарит тебя своей дружбой.
Теперь Никопола смотрела на свои руки, где блестели золотые кольца, а не на меня.
— В тебе еще нет твердости, Луций. Разве ты забыл, что мать Элии и сама не отличается здоровьем?
Это было правдой, она страдала болезнью сердца, вызванной, как я подозревал, излишествами роскошной жизни, в которые ударился мой отец, а она добровольно последовала за ним.
— Ты знаешь о том, что она может оставить свою собственность по завещанию?
Глаза Никополы вопросительно вспыхнули.
— Я не думал…
— А следовало бы! Нет причины, которая помешала бы тебе унаследовать состояние твоей мачехи.
Я почувствовал в горле комок желчи: хуже моего инстинктивного отвращения было осознание, что я слышу истину, и именно из уст Никополы.
— Оставь меня теперь, Луций! И не навещай до тех пор, пока Рим не забудет о смерти твоей жены. Ты в ответе не только за свою совесть и страсти.
Никопола грустно улыбнулась, оглядывая меня с головы до ног.
— У тебя никогда не будет недостатка в деньгах, — сказала она, и в ее голосе прозвучали одновременно и горечь, и любовь.
Тогда я вышел вон, опустошенный и усталый. Никопола знала меня лучше, чем я знал себя самого. Наверное, она предвидела это, как предвидела мои желания — фаталистично, как нечто, заслуживающее гнева, а не скорби, но предсказуемое и принимаемое.
Когда я взобрался на Эсквилин, забрезжил рассвет, ясное небо было бледно-лимонным.
Солнце вставало, затопив Капитолийский холм золотым сиянием. На углах улиц неопрятные девушки наполняли ведра из фонтанов, а старухи выглядывали из окон и перекликались друг с другом. Я повернул к своему дому. Войдя, послал раба с запиской к отцу и сообщил торжественной, спокойной девчушке с широко раскрытыми глазами о том, что ее мама умерла. Рев и шум уличной жизни разросся до утреннего пика, и в конце концов я заснул.
Когда человек устает от жизни и постепенно умирает, прошлое меняет свою личину, принимая форму тех самых меняющихся, но волшебных облачных островов и воздушных замков, которые детское воображение когда-то видело на залитых солнцем осенних небесах, или становится серией отдельных, но взаимосвязанных картин, таких, как убранство стен в комнате, где я пишу эти слова.
Мне было тридцать один год, а моей дочери Корнелии почти десять, когда меня избрали военным квестором [43] и отправили в Северную Африку, чтобы служить в кампании против Югурты.
Картина, которая остается живой в моей памяти, представляет собой молодого человека, каким я был тогда, высаживающего на берег Аттики [44] свои военные отряды и коней. Африканское солнце нещадно палит, запах лошадиного навоза и соломы смешивается с соленым морским бризом и отвратительным зловонием гавани. На причалах суетятся меднокожие аборигены — мавры или нумидийцы — и черные негры с юга. Меня направили к полководцу, которого я едва знал, — деревенскому солдафону, чья навязчивая идея о строгой дисциплине зиждилась на яростном отвращении к людям благородного происхождения. Пока я и мои потные центурионы-всадники выгружали на берег последних лошадей, солдаты падали рядом с ними, а интендант со своими помощниками присматривал за разгрузкой провизии и снаряжения, моей единственной мыслью была мысль о предстоящей поездке за те низкие красноватые холмы, туда, где в Западной Нумидии мой будущий начальник, Гай Марий, все еще охотится за своим хитрым и неуловимым врагом.
Многое произошло, в результате чего весной того года я оказался именно там, куда прибыл тогда. Что касается моих личных дел, скажу лишь вкратце, что я принял совет Никополы и помирился со своим семейством. Моя мачеха, которая, несмотря на все усердие моего отца, осталась бездетной, умерла от остановки сердца около двух лет назад. Когда огласили ее завещание, оказалось, что она оставила почти все свое состояние мне. Мой отец, чье здоровье также не улучшилось оттого, что он разбогател, так расстроился при оглашении завещания, что с ним случился удар. Он частично поправился и предпринял даже несколько слабых попыток оспорить мое наследство; но лечение холодной водой по совету модного врача-грека вскоре сделало любую подобную юридическую казуистику излишней.
Он был захоронен в той же могиле, что и его жена, а я зарабатывал общественную репутацию сыновней преданности, прочитав над ним похоронный панегирик [45]; я сумел неплохо выдержать соболезнования моих наиболее близких друзей, включая и Никополу, искренне одобрившую мой широкий жест. Она сама была больна; ее сотрясал непрекращающийся кашель, и она сильно похудела. Казалось, она постарела за одну ночь; однако жила она все в том же самом темпе и теперь отчаянно цеплялась за удовольствия молодых.
Пока я писал, тихо вошла Валерия. Я закончил предложение, с демонстративным негодованием отложил перо после слова «молодых» и улыбнулся ей.
Она разглаживала складки паллы [46] по своему раздувшемуся животу. Ее окутывал мягкий кокон спокойствия.
Я сказал:
— Я никак не найду подходящей причины, по которой ты вышла за меня замуж, Валерия.
Она выглянула в окно с открытыми ставнями:
— Пойдем погуляем немного в саду, Луций. Ты достаточно поработал.
Мы медленно прогуливались по выровненной четырехгранными балками дорожке, вдоль которой в водоеме, отделанном разноцветной мозаикой, карпы плыли к отражениям обрезанных раскидистых яблонь. Персики зрели у южной стены, случайно сбитые ветром