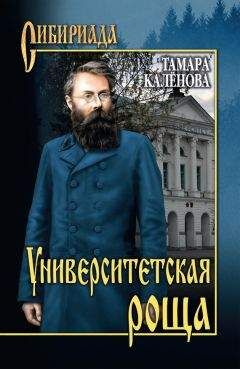Ознакомительная версия.
— В дороге погибло около десяти растений, — сообщил Крылов. — В одном месте, к прискорбию, перевернулась подвода…
— Помилуйте! — обрадованно перебил его попечитель. — Всего лишь десять из семи с лишним сотен?! Да вы кудесник, Порфирий Никитич! Одолеть такой путь с таким-то грузом — и почти ничего не потерять…
«Кудесник» потупил голову, взгляд его уперся в заляпанные сапоги…
Догадавшись о его чувствах, Василий Маркович дружески сжал его локоть и торопливо сказал:
— Но все это потом, потом… Сейчас вам нужно отдохнуть, привести себя в порядок, а затем — милости прошу ко мне и… — он сделал несколько торжественный жест в сторону университета, — … и в Сибирский храм наук!
— Но я не устал…
— Понимаю, понимаю, — вновь перебил Флоринский. — Не беспокойтесь, Порфирий Никитич, я дам распоряжение, весь груз будет аккуратнейшим образом перенесен во временную пристройку. А вы… Вас проводят в вашу квартиру. Правда, она тоже пока что приспособлена во временном помещении, но мы скоро отстроим дом для ученых сотрудников… Одним словом, располагайтесь! И к семи часам вечера прошу ко мне! Мы с супругой Марией Леонидовной будем рады вас видеть.
Крылов сидел посреди сырого темного сарая на ящике из-под китайского чая и, разложив бумаги на ларе, составлял отчет о командировке — подробное показание своих действий в том, как прибыл, сколь много казенных средств изработал, в каком состоянии доставлен груз.
На душе было смутно, тревожно. Встретить-то его встретили.
На чай пригласили. Слова, лестные для слуха, произнесли. А оранжерейка для растений не закончена! Дали вот этот сарай. Сам Крылов готов хоть в землянке ютиться, но цветы, саженцы… Не юг ведь. Через месяц холода грянут, что тогда? Архитектор не обещает быстро дело повести; пришлось даже на поднятых тонах с ним разговор завершить. Господин попечитель руками разводит, на архитектора ссылается. Павел Петрович Наранович же от Крылова бегает. Знающий и любящий свое дело, архитектор вконец измотан строительным недоделом.
До него здесь Арнольд подвизался. Тот самый, кто построил возле Севастополя храм с крышей, унесенной в море первым же крепким ветром. Наделал ошибок и долгов Арнольд да и был таков из Томска. Им, арнольдам, сибирский университет что зайцу барабан. Несвоя земля — хоть криком изойди, не услышат.
Крылов понимал сложности достройки университета, жалел Нарановича. Но ему-то что делать?!
Он почувствовал себя одиноким.
А в Казани теперь начинают поспевать яблоки — тугие, красные, сочные. Их запах сопровождает всюду, проникает в приотворенное окно ботанического кабинета, на время пережимая стойкий сенный дух травохранилища. Как хорошо, бывало, сидишь усердно в своем уголке — и вдруг с характерным знакомым вздохом открывается дубовая дверь… И входит Сергей Иванович Коржинский. Без пяти минут профессор — дела его идут блестяще, диссертация одобрена. Сергей Иванович, Сережа…
Красив, статен, движения быстрые, ловкие. Походка уверенного в себе человека и в то же время непринужденно-изящная. Глаза большие, темно-коричневые, как бы вбирающие все в себя. Несмотря на молодость, Коржинский носит пышную гриву под Менделеева. Буйная шелковистая борода и такие же густые усы имеют благородную конфигурацию. Пиджачные пары сшиты всегда по последней моде. Куда уж Крылову с его простоватостью во всем: в одежде, в манерах, в речи, в происхождении — до аристократического облика Коржинского!
В их троице — Мартьянов, Коржинский, Крылов — общим баловнем был, конечно, он, студент, с юных лет проявивший страстный характер натуралиста, темпераментом увлекавший своих более зрелых по возрасту и жизненному опыту товарищей. Фармацевт Николай Мартьянов и садовник Ботанического сада, провизор с отличием Порфирий Крылов гляделись куда как скромно! Им бы только у рабочих столов затихнуть, закопавшись в книги и травы, или выбрать счастливую минуту и утрепаться в лес, как поддразнивал друзей Коржинский. Эти двое, Крылов и Мартьянов, уже познали вкус черного хлеба самостоятельной работы, свои знания они брали упорным трудом, учась на медные гроши. Впрочем, не в этом дело. Как говорил отрок Акинфий, у каждого своя дорога… В их дружбе вопрос о происхождении и званиях, к счастью, не имел никакого значения.
— Все корпите? — иронически нахмурит, бывало, расчесанные брови Коржинский. — Экий вы, право, упорный! А погодка… Вы только взгляните!
Крылов щурит на нежданного пришельца усталые, чуточку близорукие глаза и радостно улыбается навстречу гостю. Он знает, что теперь будет так, как того захочет Коржинский. Они отыщут Мартьянова и все вместе «утрепаются» в лес.
— Ну, так что? — тормошит Коржинский медлительного Крылова. — Не слышу бодрого утвердительного возгласа.
— Не могу. Вон сколько листов надо еще обработать…
Коржинский раздосадованно машет руками и устремляется на поиски Мартьянова. Вдвоем они отбирают у Крылова цейсовскую лупу, отдирают от стола и тащат на экскурсию.
Сколько жарких споров слышали окрестные поля и леса! О чем только не рассуждали друзья! Особенно много — о Сибири.
Это волнующее, бесконечно родное слово — Сибирь — частенько срывалось с их уст. То, начитавшись корреспонденций оттуда, из глубинки, вслед за иркутскими журналистами они повторяли: «Сибирь — та же Русь». То, вспомнив статьи Потанина и Ядринцева, горячо бросались в противоположную сторону, и Сибирь представлялась им донельзя своеобычной. «Наш язык груб, наша речь неумела, но мы говорим свое слово. Наша печать — тот же сибирский балаган, отстраиваемый в лесу, а сибирский издатель — тот же простой сельский работник…» Эти слова из газеты «Сибирь» казались им вызовом российскому обывательскому обществу. В них чудился живой отзвук любви к своему краю, «юдоли плача, стенания и скрежета зубовного».
Особенно волновала их фигура Николая Михайловича Ядринцева, страстного сибирофила, писателя-публициста. Его многочисленные выступления в печати, особенно в защиту Сибирского университета, читали с жадностью. А стихотворение «Пельмень», ходившее в списках, в котором говорилось об огромном вкусном чудо-пельмене, лежавшем «между Уралом и Амуром берегами», знали наизусть.
…Но на пире этом званом
Только избранные были,
А сибирские желудки
Почему-то позабыли.
— Вот настоящий интеллигент! — горячо высказывался Коржинский. — За тридцать лет до Ядринцева таким же был Петр Андреевич Словцов. Вся умственная жизнь Сибири! Целое географическое общество! Университет ходячий! То же и Ядринцев для Сибири — даже больше. Защитник ее! А мы? А наши наставники, служители чистой науки?
— Позволь, позволь, — недовольно сводил к переносице густые брови «взятый за нерв» Мартьянов. — Я не люблю, когда ради полемической перебранки бросают камни в наставников. Нужно говорить конкретно, точно. Что касается Словцова и Ядринцева, то я преклоняюсь перед ними так же, как и перед сибирским Гумбольдтом, Григорием Николаевичем Потаниным. Но я уважаю и ученых, кои великим трудом своим, без открытой публицистичности, увеличивают славу отчизны. Не всем же, в самом деле, в публицисты себя готовить?
Крылов присоединялся и к той, и к другой стороне. Правда для него была где-то посредине. И слово, и дело, и скромный труд — все благо, если исходят от чистого сердца… Ему тоже казалось, что судьба его должна быть непременно связана с Сибирью. Казалось, что она зовет его.
И вот он здесь.
Один, без друзей. Коржинский все еще в Казани. Ждет официального вызова от Флоринского. А Мартьянов давно в Минусинске. Его слово не разошлось с делом. Окончил Казанский университет, работает провизором и… собирает музейные редкости. Уроженец западных губерний России, он выбрал Сибирь и верно ей служит; деятельный, безотказный, сделался любимцем жителей сурового края. В 1877 году Николай организовал Минусинский музей и уже в первый год имел три с половиной тысячи предметов. Сейчас, в 1885-м, их уже двадцать две тысячи! Это ли не чудо? Первый в Сибири образцовый научный склад! Свои каталоги, книги начал выпускать. Вот каким образом решил давний студенческий спор фармацевт Мартьянов.
Друзья, друзья… Как сладостна дружба, как печально одиночество.
«Коль скоро мы не в состоянии переустроить мир по справедливости, надо творить малые добрые дела», — говорил Николай Мартьянов.
Правильно говорил.
…Он расцепил руки. Встал. Еще раз окинул взглядом мрачноватый барак. Ну, что ж, далекие друзья, вы напомнили о себе вовремя. Спасибо. Всколыхнули душу. Наверное, и вам не понравился бы этот сарай. «Неэстетично», — осудил бы Коржинский, но не медля отправился бы сменить крахмальную манишку и новенькую пиджачную пару на рабочий сюртук. А Мартьянов молча принялся бы расставлять горшочки с оранжерейными растениями.
Ознакомительная версия.