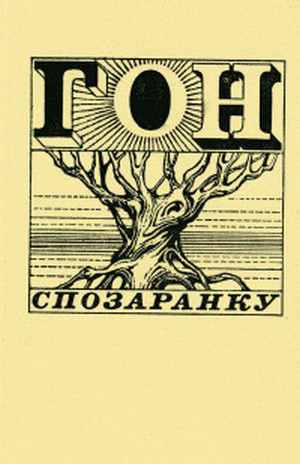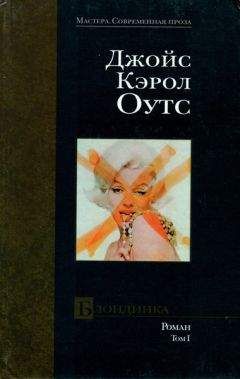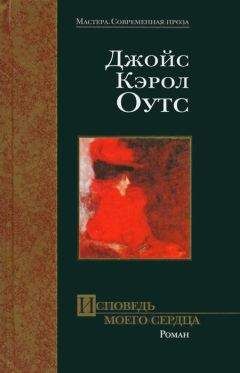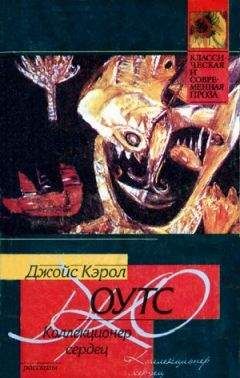самочувствие улучшилось? Да ты скоро встанешь и всем им еще покажешь! Мы от тебя еще наших девчонок прятать будем, да?.. Знаешь, Джонатан, тебе сейчас два лекарства нужны: глоточек из вот этой вот бутылки — ловко я ее от твоей женушки спрятал, да? — и пара часов на озере. Мы б с тобой с удочками посидели, авось чего клюнет. Свежего воздуха вдохнешь — и как новенький будешь, а то валяешься тут, дышишь невесть чем, так и скиснешь, пожалуй, оно и неудивительно…»
Гарнет, внучка, застенчивая худосочная блондинка с длинными спутанными волосами, угловатая и нескладная, пыталась утихомирить папашу Гидеона, угомонить его, но тот, разумеется, не обращал внимания. Ведь он-то, по его собственным словам, гнал на своем старом жеребце Фремонте до самого Бушкилз-Ферри, и все ради того, чтобы развеселить бедолагу, так что не дело всяким вздорным Хектам в юбках путаться у него под ногами.
И с Николасом Фёром, с которым Гидеон дружил с детства, разговор тоже не вышел бы, да и с другими друзьями из местных — это было бы нечестно по отношению к таинству брака и равноценно супружеской измене.
Поэтому неурядицы с женой Гидеон ни с кем не обсуждал, а с самой Леей и подавно — слишком эта была деликатная, интимная тема. Что он, ее супруг, полагает, будто она одержима… желанием… примитивной страстью… Полагает, будто она стала временами почти невоздержанной… Эта страсть, безжалостная, безрадостная борьба, это вечное соперничество — неужто все это лишь ради ребенка? Он не мог заставить себя говорить с ней на подобные темы, у них двоих не имелось слов, чтобы выразить такие мысли, и Лея смертельно обиделась бы. Зато они до упаду смешили друг дружку, изображая родственников: Лея примеривала образ золовки Лили, а Гидеон превращался в Ноэля или напыщенного дядю Хайрама. Им даже удавалось искренне обсуждать решения, которые Ноэль принимал, не советуясь с Гидеоном, и они порой ворчали друг на друга, когда кто-то был не в духе (как правило, чаще это случалось с Гидеоном), но говорить об интимной стороне жизни, сексе, любви они не могли. Запутавшись в этих крамольных мыслях, Гидеон вскакивал и бросался в конюшню, где с час или больше просто стоял, ни о чем не думая, не размышляя, а лишь вдыхая терпкий запах сена, навоза и лошадей и постепенно успокаиваясь. Нет, обсуждать подобное с Леей он не станет. Кроме того, он полагал, что стоит ей забеременеть, как это наваждение сойдет на нет.
Однако, как ни удивительно, Лея не беременела. Шли месяцы, но ничего не выходило, беременность не наступала, и Лея винила себя — снова, снова не вышло! — она так цеплялась за это слово, что Гидеону пришлось смириться. Иногда она произносила его испуганным шепотом: «У меня не вышло, Гидеон», а иногда — словно сухо констатируя: «У нас ничего не вышло»'. Здоровье Бромвела и Кристабель было отменным. Бромвел научился ходить на несколько недель раньше, чем Кристабель, но заговорили оба одновременно, и все вокруг восхищались их благонравием: «Лея, ну как же тебе повезло! Ты, должно быть, обожаешь их!» — «Разумеется, я их обожаю», — рассеянно бросала Лея, а спустя несколько минут просила Летти унести детей. Она любила близнецов, однако считала их достижением прошлого, нсчэбъясиимым успехом, которого она добилась в девятнадцатилетнем возрасте, но ведь ей уже двадцать шесть, двадцать семь, а вскоре исполнится тридцать…
А родственники начали отпускать комментарии. И задавать вопросы. Тетка Эвелин, бабка Корнелия, даже тетя Матильда, даже сама Делла. А ты еще не думала?.. А вы с Гидеоном не хотели бы?.. Близнецам уже пять, вам не кажется, что сейчас самое время?.. Однажды Лея, не выдержав, огрызнулась на свекровь: «Мама, вам, возможно, кажется, что мы не пытаемся. Так вот — мы только этим и занимаемся» — эту фразу потом то и дело повторяли как пример свойственной Лее Пим бестактности. Но Лея была такой красавицей, с этими глубоко посаженными серо-синими темными глазами, волевым подбородком, пухлыми губами и горделивой осанкой, что ее конечно же простили — по крайней мере, мужчины семейства.
Лили же тем временем рожала и рожала. «Это же совсем просто, этакое первобытное стремление к цели, — думала Лея, наблюдая за золовкой со слабой улыбкой, за которой скрывалось безмерное презрение. — Или ей известны какие-то секреты? Тайные приемы? Суеверия?» Однажды утром, за несколько недель до появления в усадьбе Малелеила, Лея проснулась с ясной мыслью: Я ни во что не верю, я стихийная атеистка, но что если просто ради… ради эксперимента… испытать несколько обрядов. (Ох, но ведь «вера» ей и впрямь не дается! Лея смеялась над знамениями и приметами, высмеивала глупую болтовню про духов, мертвецов и библейские пророчества, которые — она это прекрасно знала — родились в воображении изголодавшихся по сексу отшельников. Она даже отрицала, возможно, с излишним пылом, рассказы матери о пророческом сне, приснившемся в вечер накануне трагической гибели ее молодого супруга.) И тем не менее она решилась на эксперимент. Лишь проверить гипотезу. Конечно, она не верила — для этого она была чересчур умна и скептична и обладала слишком язвительным чувством юмора. Но, возможно, Лея была способна на полуве-ру. Атеистка, она могла заставить себя поверить наполовину, если хотела.
Я ни в что не верю, — сердито думала она.
Но что если я поверю…
Хотя, разумеется, нет. Я не могу. Прятать под подушку разные предметы, шептать молитвы, высчитывать день зачатия близнецов, вспоминать, что мы с Гидеоном перед этим ели…
Но что если я всё же…
Занимаясь в Гидеоном любовью, она крепко схватила его за ягодицы, закрыла глаза и подумала: «Сейчас, вот прямо сейчас!», но слова эти показались ей нелепыми, и она откинулась назад, почти дрожа, беспомощная, жалкая. Ей хотелось умереть. Впрочем, нет — конечно, умирать она не желала. Она хотела жить. Хотела родить еще одного ребенка и жить, и тогда все будет хорошо, и она больше ничего в этой жизни не захочет.
Больше никогда в жизни?
Никогда.
И ничего? За целую жизнь?
За всю мою жизнь.
Еще один ребенок — и больше ничего в жизни?
Да, больше ничего.
Лея прибегала к мелким уловкам,