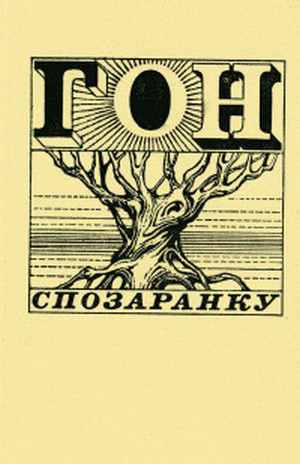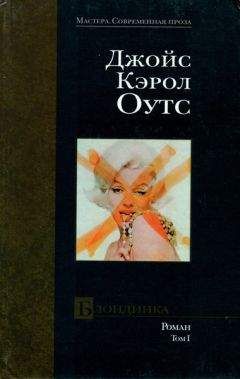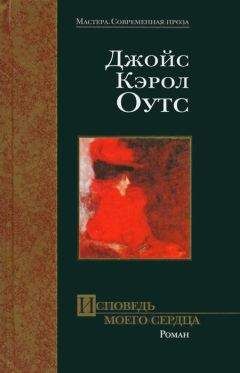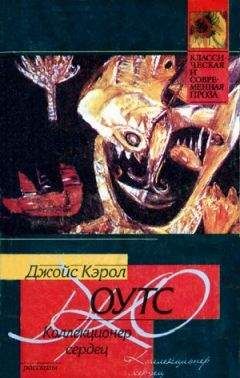теперь и ее по-мужски ненасытной страстью, ее подавленным, хищным желанием, тем удивительным фактом (о котором Гидеону лучше бы не знать, ведь он так сильно любил ее и стремился защитить от любых обид, даже от самого себя), что ей хотелось быть… бесстыдной, что в отчаянной агонии последних минут любви, когда становилось очевидно: сейчас, вот-вот, наслаждение, которого так жаждало ее тело, может ускользнуть от нее, она принималась упрашивать его — выкрикивала его имя, с полурычаньем выплевывая обрывки слов. Лея Пим, его гордая юная кузина, высокая, широкоплечая и в высшей степени уверенная в себе, знающая цену своей красоте, своим густым золотисто-рыжим волосам, да и своей душе тоже (которая будто бы держалась слегка в стороне, отделенная от тела, высокомерная и скорая на расправу как со своей хозяйкой, так и со всеми остальными) — как же случилось, с порочным удовольствием недоумевал Гидеон, что она так изменилась?
«Неужто это я, Гидеон, — думал он, — изменил ее?»
Давным-давно, еще будучи детьми, они играли в игры, от которых у Гидеона пересыхало в горле, и он изнемогал от тоски. Лею он видел редко, его предупреждали, чтобы ее общества он не искал: ведь она дочь Деллы Пим, Деллы, которая ненавидит их всех, поэтому возможность увидеть ее, играть с ней выдавалась редко. Но один случай в старом кирпичном деревенском клубе ему запомнился. Гидеон был уже почти юношей и скорее смущал участников игр. Юэну давно было запрещено здесь появляться: неуправляемый и резкий, он был ростом со взрослого мужчину и нагонял страх на остальных детей. Игра называлась «Игольное ушко». Мальчики и девочки водили хоровод и одновременно пели прерывистыми от возбуждения голосами, сменяя друг друга в парах и держась за руки — игра, в которую играли многие поколения; раскрасневшиеся дети ходили кругами и тайком переглядывались, а Лея, в свои двенадцать лет на голову выше других девочек, разрумянившись, словно на ветру, старательно отводила взгляд от него, Гидеона. Он встал в центр хоровода, сцепившись руками с Вильде, девочкой, чья семья жила ниже по реке. Они подняли руки над головами марширующих детей, и его пульс бился в такт знакомым бессмысленным словечкам, до значения которых ему не было дела, потому что он не сводил глаз со своей юной кузины с медными волосами до пояса и маленькими острыми грудками, уже угадывающимися под синим свитером ручной вязки.
Игольное ушко, что с ниточкой внутри, работает проворно, ты только посмотри. Девчушек-хохотушек поймало без труда, теперь ты тоже пойман, считай, что навсегда.
Вот поймало первую, за ней еще одну, оно поймало многих смеющихся девчат, теперь ты тоже пойман, считай, что навсегда [4].
Партнерше Гидеона не хотелось опускать руки на голову своенравной Леи — из ревности или, может, из страха, что та ткнет ее пальцем в ребра, однако Гидеон дернул ее за кисть вниз, поймав кузину в ловушку: мальчики, державшие ее за руки, отступили, и Лея, красная от злости, осталась в одиночестве. Опустив голову, она уставилась в пол, а дети снова завели «Игольное ушко», на этот раз почти не скрывая злорадства. Сейчас Лею поцелуют! При всех! У всех на глазах! Щеки Леи Пим заливал густой румянец гнева, она выпятила нижнюю губу и боялась глаза поднять от стыда. Игольное ушко, что с ниточкой внутри, работает проворно, ты только посмотри…
Пережевывать прошлое Гидеон не привык, это было не в его привычках, возможно, он вообще был не приспособлен к раздумьям. Но при воспоминании о той дурацкой игре он не мог сдержать слез, а сердце колотилось быстро-быстро, потому что он по-прежнему был тем шестнадцатилетним пареньком, разлепившим пересохшие губы и глазеющим на свою прекрасную кузину, с которой едва перемолвился дюжиной слов. Как он любил ее — уже тогда! И какое это было унижение, какая мука… Он шагнул вперед, схватил ее за плечи и собрался было поцеловать (ведь это было не только его право, но и обязанность, согласно правилам игры, и, хотя рядом были взрослые, никто не бросился бы к детям с криками: «А ну прекратите, негодники вы этакие!»); но Лея едва слышно запротестонала и наклонив голову, увернулась, будто бы случайно ткнув макушкой Гидеону в губы. Дети оглушительно захохотали, а Гидеон вытирал с разбитой губы кровь носовым платком, который, суетясь, сунула ему какая-то старушка. Лея же выскочила из зала.
Гидеон подергал жесткую черную бороду, с силой потер лицо руками и вздохнул. «Неужто это я, Гидеон, изменил ее?»
Вот бы поговорить по душам с братом, Юэном. Расспросить его. О женщинах — таких, кто жаждет родить ребенка. Вот только возможно, что Юэн, женатый на бледной робкой женщине, просто не поймет, о чем толкует Гидеон. Или обратит всё в пошлую шутку. Поговорить бы с отцом. Или дядей Хайрамом. Или с кем-то из двоюродных братьев из Контракёра, которых он сейчас редко навещает из-за разногласий, возникших в прошлом году по поводу аренды участка земли возле реки… Был еще кузен Гарри — он всегда нравился Гидеону, но в последнее время тоже отдалился из-за какой-то размолвки между его отцом и Хайрамом, связанной с деньгами, однако Гидеон в этом почти не смыслил.
К тому же в семье почти никогда не обсуждали серьезных вещей в открытую. Так как же ему начать? Боясь, что Ноэль рассердится или изобразит недоумение, Гидеон опасался упоминать болезни, несчастья, долги и всяческие денежные затруднения. Среди Бельфлёров принято было демонстрировать грубоватую жовиальность. Выпивка и охота — вот главные мужские развлечения. И нет на свете такого, над чем нельзя посмеяться. Или — чего нельзя заболтать. (На противоположном берегу озера жил старый краснодеревщик Джонатан Хект, несколько десятилетий назад он брал заказы и у бабки Эльвиры. Сейчас же его разбила «немочь» — то были последствия полученных на войне ран, и теперь он редко вставал с постели, лишь изредка спускаясь вниз, в гостиную или, в теплую погоду, сидел на веранде. Хект умирал, в этом не было сомнений, временами ему не хватало сил даже подмять руку в приветствии, и тем не менее, на вещая его, отец Гидеона громогласно шутил и даже слегка подтрунивал над стариком. Он решительно подходил к кровати, рывком снимал шляпу, принося с собой уличную суматоху, запах лошади, кожи и табака. «Ну что, Джонатан, чудесное утро! Ты как? По-моему, выглядишь получше! Небось и