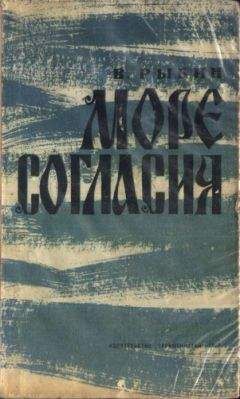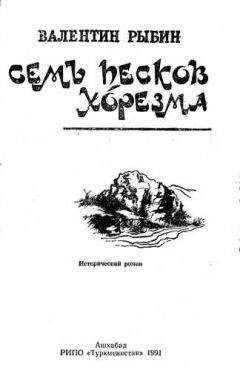Начштаба, генерал-лейтенант Вельяминов, уже сидел за столом. Перед ним горела свеча и лежала кипа бумаг. Старчески сутулясь, он что-то писал и на Ермолова не обратил внимания. Командующий прошествовал к окнам, раздвинул шторы. Утро осветило персидские ковры на полу, турецкий диван и дюжину зеленых кресел.
— Ну-с, Иван Александрович,— вешая бурку, спросил Ермолов, — вытанцовывается?
Был он в темно-зеленом мундире при эполетах, в белых лосинах и сапогах. В форме выглядел еще выше ростом. На его заспанном лице лежала печать озабоченности. Вельяминов кивнул генералу и, выйдя из-за стола, подумал, что командующий, как всегда перед выездом, нервничает,— но, право, не стоило так рано подниматься и обременять себя хлопотами...
— Маршруты давно готовы, Алексей Петрович. Извольте — вот они, — спокойно отозвался начштаба, указывая рукой на бумаги.
Ермолов прошел за стол, склонился над маршрутной картой. Кольца темно-русых волос упали ему на лоб. Черные густые брови насупились.
— Ну что ж, я вполне согласен, — сказал он, изучив схему передвижения войск. — Сегодня же отошлите фельдъегеря к контрадмиралу Грейгу. Пусть подведет эскадру к Керчь-Еникольскому проливу и перебросит полки. А в распоряжение Мадатова тотчас отправьте казачий отряд Табунщикова.
Вельяминов легонько поклонился и вышел...
Стопкой на столе лежали документы на офицеров, отбывающих вместе с Ермоловым в Дагестан. Подписывая их, командующий задерживал взгляд на фамилиях. С ним, в основном ехали те, кого он знал не менее, чем самого себя. Это была гвардия, прошедшая с ним от Москвы до Парижа. Генерал знал, как храбры и беззаветно преданы ему эти люди. И все-таки он испытывал некую робость перед тем, что ему сулила нынешняя, дагестанская, кампания. На нее он решился не сразу.
Три года назад, направляясь чрезвычайным послом в Персию, дабы на обратном пути остановиться в Тифлисе и принять командование у Ртищева, Ермолов посмеивался над русской немощью, какая царила на Кавказе. Ему тогда казалось, что при восшествии на кавказский престол он тотчас положит конец всем неурядицам и заставит повиноваться дерзких горцев. Но так лишь казалось. Приехав в Тифлис и став главнокомандующим, Ермолов не добился и толики того, о чем мечтал. Как и прежде, в горах властвовали непокорные чеченцы и лезгины. Всюду рыскали шайки абреков, и проливалась кровь. Даже многолюдные оказии из России в Тифлис и обратно двигались под усиленной охраной казачьих отрядов. Маневрируя своим малочисленным войском, командующий понял, что этими силами с горцами не справиться и попросил помощи у государя-императора. На днях он получил секретное донесение о пополнении кавказской армии двадцатью шестью тысячами солдат и офицеров. В распоряжение Ермолова были отданы пехотные полки— Апшеронский, Тенгинский, Навагинский, Ширванский, Куринский, Мингрельский; четыре полка егерей и две артиллерийские роты1. Пополнение шло, чтобы занять позиции вокруг Дагестана и затем двинуться вглубь, на непокорные горские, аулы.
Просматривая аттестации, перечитывая рапорты и прошения, он не заметил как наступил день. Сквозь двери из коридора доносились голоса штабистов, а в окна вливался разноязычный гомон пробудившегося города. Дважды Ермолов подходил к окну, курил трубку и смотрел на длинные с затейливыми балконами дома, на церкви, и на вросшие в землю бедняцкие сакли в низине. Но думал он о другом. Его не интересовали глиняные трущобы и каменные замки. Не обращал он внимания на черных монахов у церковных ворот, на фаэтонщиков, на мастеровых, на женщин, стоявших на плоских крышах,— он был далек от всего этого. Сквозь облачка табачного дыма командующий видел хмурый Петербург с кораблями на Неве, с просторной Сенатской площадью, с царским двором и апартаментами Главного штаба. Видел ехидно улыбающееся лицо вице-канцлера Нессельроде: «Вот тебе и герой... С чумазыми лезгинами справиться не может...» Видел барона Дибича: «Ваше величество, надо помочь Ермолову. Он в уме, но мы переоценили его...» Видел рассеянную улыбку государя: «Ну, если это так, то конечно... Только не ожидал я от Алексея Петровича..»
Думая об этом, Ермолов все больше приходил к убеждению, что «они» не простят ему, случись неудача, и не дай бог, поражение. Запросив помощь, он поставил на карту свою генеральскую честь. Без победы он не представлял своего дальнейшего существования. «Жечь все под корень... Никакой пощады. К черту ханства! Надо везде учредить русские области. Только так и не иначе!..» — холодно и жестоко выговаривал его ум. И он видел: от Крыма к Тереку и Сунже по полям и лесам, через речки и буераки, в долины Дагестана маршем движутся пехотинцы, приплясывают лошади егерей, и в конных упряжках тащатся большеколесые пушки...
К десяти утра штаб-квартиру наводнили приезжие офицеры из полков, переселенцы из России, местные князья и дворяне. Штабной офицер приоткрыл дверь ермоловского кабинета, спросил: будет ли его высокопревосходительство принимать посетителей? Ермолов сказал, что пока он занят.
Дел было много. Часть документов командующий отложил в сторону, чтобы передать Вельяминову и правителю канцелярии Могилевскому. И только наиболее важные, не требующие отлагательства, рассматривал и тут же принимал решения. Одним из таковых документов был рапорт астраханского гражданского губернатора Бухарина о готовности кораблей «Казань» и «Святой Поликарп» к отправке в распоряжение Бакинского морского штаба. По этому документу на десять часов утра был назначен вызов Гянджинского окружного начальника — майора Пономарева и гвардейского капитана Муравьева. Командующий тотчас захотел их видеть, и почувствовал прилив сожаления: далеко отбросило время те намерения, которые он предполагал осуществить по приезде на Кавказ.
Посылка экспедиции на Восточный берег Каспия была одной из главных задач в ермоловской политике. Почти два года он переписывался с Нессельроде по этому поводу. Ничего не добился. Пошел на свой собственный риск — дал приказ готовить корабли. Наконец, недавно из Петербурга были получены официальное разрешение на посылку экспедиции и подарки для Хивинского хана.
Командующий дернул за шнурок,— в приемной звякнул колокольчик. Вошел дежурный офицер. Ермолов встал, сказал, набивая трубку:
— Пригласи-ка, голубчик, майора Пономарева и капитана Муравьева. Здесь они?
— Здесь, ваше высокопревосходительство!
— Ну так пригласи...
Офицеры остановились у порога, одновременно отдали честь и сняли фуражки.
— Проходите, господа, — пригласил Ермолов, мельком окинув обоих и остановив недовольный взгляд на майоре. Пономарев заметно изменился в лице. С виду ему было лет сорок. Тучное тело майора плотно облегал поношенный мундир и лосины. Одутловатое лицо землистого цвета, мясистый сизый нос и повинные глаза выдавали в нем человека пьющего. Наместник Кавказа недолюбливал Пономарева за какие-то «старые грешки», перебрасывал с места на место по службе. Свитские считали, что причиной тому алкоголь, но в сущности было что-то другое, о чем и Ермолов и Пономарев умалчивали.
Капитан Муравьев выгодно отличался от опального майора и внешностью, и благоволением главнокомандующего. Это был двадцатипятилетний шатен вышесреднего роста. Лицо открытое, русское. Глаза большие, умные, насмешливые. Держался он с достоинством. Скептическая улыбка говорила о некотором высокомерии капитана, но два Аннен-ских креста, орден Владимира 4 степени и орден австрийского короля Леопольда прощали ему этот небольшой «грех». Сейчас эти награды поблескивали на груди, под пышными эполетами.
Муравьева командующий приблизил к себе в Видзах, перед самым началом войны с Наполеоном. Алексей Петрович тогда командовал гвардейским корпусом. Вновь прибывший прапорщик обратил на себя внимание познанием математики, блестящей остротой и твердостью суждений. Эти качества всегда любил и отличал в своих подчиненных Ермолов.
С генералом Ермоловым Муравьев прошел всю войну. Участвовал в знаменитых сражениях при Бородино, на речке Березине, под Кульмом. Храбрость его изумляла Алексея Петровича, и он ставил Муравьева в пример другим, потому что это была не безрассудная храбрость добра-молодца, а осмысленные, предельно смелые действия, окрашенные завидным хладнокровием. Ермолов обращался с капитаном запросто, как с младшим братом. Звать себя велел по имени-отчеству, и только в сугубо официальной обстановке он для него был «вашим высокопревосходительством».
Несмотря на столь близкие отношения генерала с гвардейским капитаном, первый все-таки знал о своем подчиненном слишком мало. Например, он не смог бы сказать, как жил Николай Муравьев до войны в петербургской школе колонновожатых, о чём думал и какие вынашивал идеалы. Алексей Петрович пока и предполагать не мог, что гвардии капитан Николай Муравьев — основатель первого тайного юношеского общества; — «Священной артели». Не знал и о том, что многие выходцы из школы колонновожатых и другие армейцы, друзья Муравьева, — Лунин, Фонвизин, Орлов, Матвей Муравьев, брат Александр были вовлечены в тайное общество благодаря вот этому, не по летам серьезному, офицеру. Армейская служба разъединила Николая Муравьева с ними — он уехал сюда, на Кавказ. Но связь со старыми друзьями не порывал и был в курсе всех событий, какие происходили в «Священной артели». Впрочем, от всевидящего ока Ермолова уберечься было трудно. Если он и не знал о прямой причастности своего подопечного к вольнодумцам, то, во всяком случае, догадывался о его истинных взглядах и настроении. Поводов к этому было более чем достаточно...