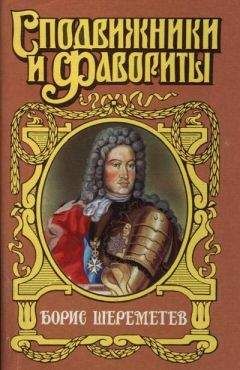В последних словах боярина невольно царь упрек уловил: мол, ты-то с регулярным войском дважды на Азов ходил и кое-как управился {4}.
Но Петр на правду не обидчив был, засмеялся даже:
— Уел ты меня, Борис Петрович. Уел. А что касается взятия Казыкерменя и Тагана, так за это тебе и Мазепе {5} от меня большое спасибо. Молодцы, ничего не скажешь!
И сразу как-то помягчел Петр, в глазах потеплело.
— Как устроился-то после Белгорода?
— Спасибо, государь, снял двор у жениной родни. Все есть: поварня, мыльня, конюшни.
— Надо свой дом на Москве покупать.
— Надо, конечно, но абы какой не хочется, а хорошие пока не продаются. Да и деньжат подкопить надо.
— А как жена?
— Скрипит пока моя Евдокия Алексеевна.
— Болеет, что ли?
— Не поймешь. Дохлый какой-то род у них, Чириковских, с червоточиной.
— Смотреть надо было, когда брал-то.
— Так ведь, государь, сам знаешь, как у нас женят. Родители вздумали, и все, нас, робят, и не спрашивают.
— Это верно. Меня тоже не спрашивали {6}. Я ведь что тебя позвал-то, Борис Петрович. Ты ведь знаешь, что я с Великим посольством за границу еду {7}.
— Знаю, государь.
— Хотели еще в феврале отчалить, а тут, вишь, заговор объявился. Пока розыск, пока суд, две недели потеряли. Ныне на десятое марта назначили. Я знаю, что окромя военного дела ты и в дипломатии дока.
— Какой там… — отмахнулся смущенно Шереметев.
— Нет, нет, не отвиливай. Ты ж в восемьдесят шестом с поляками переговоры вел.
— Князь Василий Васильевич Голицын {8}, государь. А я так, сбоку припека.
— Знаю я. Но был же? И ты ж ездил за королевской подписью на договоре. Да?
— Мы с Чаадаевым Иван Ивановичем, государь.
— И подпись вырвали-таки у короля. А?
— Вырвали… — усмехнулся Шереметев приятному воспоминанию.
— Ну вот, а говоришь, не дипломат, не дока.
— Так ему уж некуда было деться, Яну-то Собескому {9}. Его турки к стенке приперли, армию в пух и прах разнесли. Он во Львов припорол в отчаянии, а тут мы с договором. Плакал, подписывая-то.
— Что? Серьезно?
— Ну да. Уж очень ему не хотелось Киев нам уступать {10}. Так и молвил: от сердца отрываю.
— А вы что ему?
— Ну что? Я одно молвил ему в утешение: мол, не даром берем, полтораста тысяч платим. И потом, христианам, мол, уступаете, ваше величество, не басурманам каким-то.
— М-да, жаль, помер старик… — вздохнул Петр. — Теперь в Польше бескоролевье, драчка грядет. Кого-то изберут ясновельможные?..
— Но у нас же Вечный мир с ними!
— Э-э… Борис Петрович, в Польше что есть вечное — так это смута. Явится какой француз — плевать ему на наш договор. А нам против султана союзники крайне нужны. Великое посольство наше будет таковых приискивать. А тебе вот что я хочу поручить, Борис Петрович. Мы поедем через Ригу, Пруссию {11} на Голландские штаты {12}. А тебе надлежит приватно ехать в Вену к императору {13}, у него турки тоже костью в горле. Тебе разнюхать надо, тверды ли они в союзе против султана. Оттуда правься на Венецию для того же и далее на Мальту.
— На Мальту? А зачем?
— Мальтийский орден {14} — это гроза на юге для султана. В прошлом веке сорокатысячная армию турок ничего не смогла сделать с орденом, где в крепости сидело около восьми тысяч всего. Турки за четыре месяца половину армии потеряли, так и отступили несолоно хлебавши. Если тебе удастся склонить орден к союзу с нами, это же будет великолепно. Туркам не до Азова станет. Тогда мы сможем и на Керчь замахнуться. И вообще, посмотри там устройство крепостей, зарисуй, если надо. В Венеции, говорят, строят галеры {15} удачно, попробуй чертежи достать. Впрочем, я после Голландии хочу сам туда проехать, может, еще и встретимся. Ты везде почву взрыхлить должен, а я приеду посевом займусь…
— Когда прикажешь выезжать, государь?
— Не спеши. После нас, когда потеплеет, дороги обсохнут. А что, сына с нами не хотел бы послать, Борис Петрович, поучиться там?
— Поздно уж учиться-то Мишке-балбесу, уж двадцать пять стукнуло.
— Мне тоже двадцать пять, однако ж в ученики рвусь.
— Прости, государь, — смутился Шереметев нечаянной оговорке. — Но он под Азовом ранение получил, ты же знаешь. Еще лечится.
— Ну, это другое дело. И самое главное, Борис Петрович, ехать тебе надо инкогнито, можешь даже под другой фамилией.
— Так что? Значит, никаких грамот не будет?
— Письма от меня будут рекомендательные императору, Папе Римскому, дожу венецианскому {16}, ну и великому магистру. Сейчас придет Нарышкин, составим. Но все ты в тайне должен держать, Борис Петрович. Зачем, для чего, ты один знать должен, а свите своей скажи, что едешь, мол, мир посмотреть.
— Охо-хо-хо, — поскреб Шереметев потылицу. — Путь, чай, не дешев будет, государь.
— Понял. Но много дать не могу. Со мной около двухсот человек едет. Беру казну не только для подарков, но и оружие закупать, мастеров нанимать, да и учеба, не думаю, что задарма будет. Дам тебе тысяч десять.
— Достанет ли? Круг-то эвон какой, за тридевять земель бежать.
— Своих добавишь, Борис Петрович, не жмись. А воротишься с успехом, составишь расходный лист, все до копейки получишь.
— А если без успеха ворочусь?
— Ты-то?.. — подмигнул весело царь. — В дипломатии преуспел, на поле ратном тож. И не думай о конфузии. Все получится. Ступай. Осьмого числа у Нарышкина письма возьмешь. Да не кажи никому их, акромя адресатов.
— Я все понял, государь.
Шереметев вышел на Постельное крыльцо и столкнулся с Нарышкиным — дядей Петра, спешившим на вызов царя. От него пахнуло на боярина крепким сивушным духом. Подумал с осуждением: «Этот сейчас напишет письма, как же!»
Направился к Спасским воротам, сердясь на Меншикова: «Явился со своей коляской, сюда довез. А назад?» Но тут от Ивановской площади, на которой толпились держальники боярские {17} с выездами, раздался радостный крик:
— Борис Петрович! Бояри-ин!
Оглянулся Шереметев, а оттуда хлынью {18} едет Алешка, рот до ушей и в поводу ведет заседланного хозяйского Воронка.
«Догадливый, чертушка!» — подумал удовлетворенно Борис Петрович про слугу, но вслух хвалить не стал. Принял повод, поймал ногой стремя, взлетел в седло почти по-молодому, подумал невольно: «Еще ничего. Могу».
Похлопал ласково Воронка по шее, молвил:
— Домой, дружок.
Конь всхрапнул, довольный хозяйским вниманием, и побежал к воротам, не подстегиваемый, не понукаемый. Ничего не скажешь, любили они друг друга — конь и боярин, любили и понимали.
Алешка ехал за хозяином, приотстав на корпус. Уже у дома Шереметев, полуоборотясь, сказал ему:
— Вели мыльню истопить пожарче, веников с квасом приготовь. Буду лечиться… государь велел.
Глава вторая
ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ
От веку не мазанные петли взвизгнули по-поросячьи, и захлопнулась дверь кутузки за спиной Бориса Петровича. Прогремел тяжелый наружный засов, прозвякали ключи, и все стихло. За толстой дверью темницы даже не услышались шаги уходившего тюремщика.
«Наверно, стоит прислушивается, гад», — подумал Шереметев. В ушах звенело, видимо от волнения, вызванного внезапным арестом.
«Вот и приехали», — кисло усмехнулся боярин, присаживаясь на край лавки, залосненной многими сидельцами, пребывавшими до него в этой вонючей темнице. Лавка, накрепко приделанная к стенке, видимо, служила арестантам ложем.
Через крохотное зарешеченное окно под самым потолком едва пробивался дневной свет, не освещавший даже столика, приделанного к стене под окном.
Потянулись долгие, тягостные часы заключения. Устав сидеть, Шереметев встал, решил походить по камере, но вскоре был вынужден отказаться от этой затеи — настолько была мала и тесна темница. Дородный боярин то и дело упирался в стену, ушиб коленку об лавку и решил опять сесть. Потом прилег. Было жестковато, непривычно, но для человека военного терпимо.
Борис Петрович, прикрыв глаза, думал: где же он дал осечку? Указ царя, напутствуя его, сообщал, что-де едет он «ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей Креста Святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры».
Царь отбыл с Великим посольством 10 марта 1697 года, а вот Шереметев не спешил. Подгонять, поторапливать его было некому, поскольку его грядущая поездка держалась почти в тайне. Помимо царя знал о ней лишь хозяин Посольского приказа Лев Кириллович Нарышкин, изготовлявший вместе с Петром представительские грамоты. Именно он и спросил Шереметева: