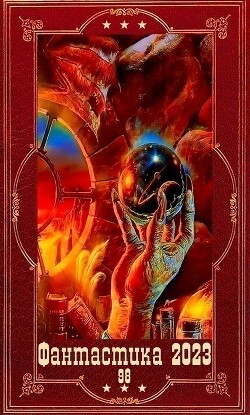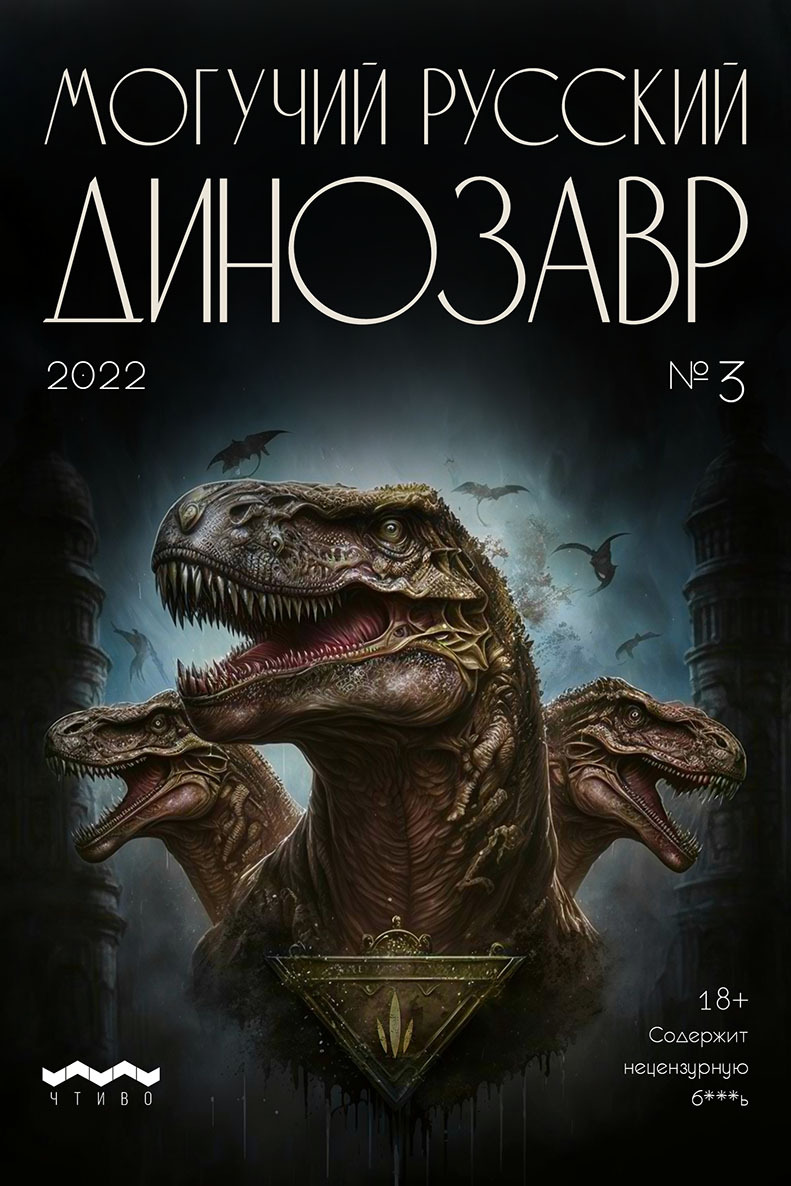надо радоваться, что мы в городе! И, надеюсь, в нем и останемся. То, что мы его заняли, может сыграть решающую роль! Не время думать о жертвах, и уж точно о тех, что приносишь лично.
Лакош был на этот счет другого мнения, но промолчал. Бройер тоже замолк. После несносного однообразия последних дней и недель сегодняшний внезапный отъезд глубоко взволновал его, и он никак не мог отделаться от мыслей, что роились у него в голове. Последние сказанные им слова казались Бройеру не очень-то искренними. Не его ли самого все чаще посещало желание убраться подальше из Сталинграда? Не думал ли он и сам все чаще об отпуске, о жене и детях дома, а не о бедных солдатиках на берегу Волги? Каким же эгоистом стал он за эти три года войны! Вот и в нем зашевелился “внутренний подонок” [1], с которым надлежало всеми силами бороться. Бройер чувствовал, что должен презирать себя, но не мог в то же время отделаться и от чувства облегчения. Разумеется, нужно было во что бы то ни стало удержать город, и так оно и будет. У него в ушах до сих пор звучали слова Гитлера по случаю открытия четвертой кампании зимней помощи фронту, которые передавали по громкоговорителю в лазарете: “Волга перерезана. Оккупация Сталинграда неминуема… И можете быть уверены, после этого никому не под силу потеснить нас оттуда”.
Раненые, рассевшиеся в переполненном вестибюле или лежавшие там же вплотную друг к дружке, молчали, глядя в пустоту потускневшим взором. Конечно, они в состоянии были признать военную необходимость битвы за Сталинград. Но над ними довлела тяжесть сражения, и в каждом наверняка теплилась мысль, что он-то уж точно пожертвовал всем, чем мог, ради взятия этих жалких развалин города на Волге, и теперь настала очередь других. Оттого они и молчали. Да и дивизия Бройера тоже принесла немало жертв. Они заслужили, чтобы на их место заступили другие. И этому они имели право радоваться!
– Вон он!
– Кто? Где? – вскакивает офицер.
– Вон там! Дон!
Оба наклоняются вперед, чтобы приглядеться. Дорога понемногу уходит под откос, внизу виднеется поселение, а за ним вьется серебристо-серая полоса реки. На другом берегу приветливо клонятся небольшие тенистые рощицы, самые настоящие, о которых долгими месяцами можно было только мечтать. Машина медленно катится по почти безлюдному хутору, сворачивает на бревенчатую гать и наконец скачет по расшатанным планкам понтонного моста.
Стало отчетливо слышно, как строчат пулеметы и то и дело грохочут мощные взрывы. Отсюда недалеко до отсечной позиции, прикрывающей Сталинград с севера. В этом месте реку пока еще не затянуло, но чуть вдалеке уже виднеется кромка рыхлого тускло-серого льда. На пологом берегу раскинулись пастбища, склоны поросли кустами, оголившимися к зиме.
Дон! Бройеру вспоминается тот день, когда он пересек его в первый раз. Тогда, в конце июля, он находился намного дальше к югу. С небес припекало солнце, на дорогах, по которым они продвигались, вздымались клубы пыли, покрывая листву и траву, людей и машины желто-серой грязью. Он, Бройер, был в ту пору еще командиром роты в составе мотострелковой дивизии. Стремительно прорываясь вперед, дивизия перешла реку у винодельческой станицы Цимлянской. Короткий привал позволил пропотевшим, запыленным солдатам окунуться в мощный поток, мирно раскинувшийся у их ног, словно спящий великан первозданного мира. “Тихий Дон” – так звали его казаки. Тихими и безмолвными были и покрытые лесом берега, и виноградники, и утлые деревянные лачуги, то тут, то там проглядывающие в зелени. Не нарушал тиши и труп подбитого русского летчика, простершего восковую длань к небу, лежа на сверкающей песчаной банке посреди реки, у остова своего самолета, чьи части уже наполовину были раскиданы ветром. Но течение, с которым не могли бороться пловцы, позволяло прочувствовать скрытые силы, дремлющие в этом гиганте.
Спустя всего несколько дней все надежды на то, чтобы увидеть Кавказ и пальмовые заросли на берегу Черного моря, потерпели крах. Дивизию развернули на северо-восток, и впервые прозвучало название, сразу показавшееся Бройеру неприятным и даже предвещавшим беду – “Сталинград”. Последовал форсированный марш по унылой калмыцкой степи, где мелкий песок проникал во все щели и швы, перемалывая моторы машин, последовали щедрые на потери, но скупые на победы бои на юге, пока наконец после обходного маневра не удалось проникнуть в город с запада. И это было только начало! Развязалась ожесточенная борьба за каждый дом, каждый подвал, каждую стену и каждую развалину, рукопашные схватки один на один, борьба с невиданным количеством жертв, в которой дивизии таяли, словно снег на апрельском солнце. Еще нигде и никогда за все время войны подобного не бывало. И сейчас, три месяца спустя, борьба эта так и не была окончена…
Но для Бройера она осталась позади. С тихой радостью в сердце он наслаждался видом холмистого пейзажа, так долго укрытого от его глаз, видом рощ и хуторов. У него словно камень с души упал. Дон раскинулся за спиной; третий раз ему эту реку не перейти. Когда дивизия, отдохнув и восстановив силы, следующей весной вновь вернется на фронт, судьба Сталинградской битвы уже будет решена.
В северной части большой излучины Дона лежит хутор Верхняя Бузиновка. По долине на километр тянется узкая полоса деревянных домов, которую прерывают лишь небольшие группы деревьев, посеревшая деревянная церковь и многоэтажное кирпичное здание городского типа, в котором немецкие оккупационные войска развернули лазарет. Местность заполонили обозные отряды – здесь расположился штаб дивизии.
Прохаживаясь по комнатам деревянной избы, зондерфюрер Фрёлих раздавал приказы. Стоило ему оказаться в четырех стенах, в настоящем доме, как в нем пробудилась буржуазная тоска по цивилизации. Сунув свой ястребиный нос в каждый угол, он с удовлетворением остановил взгляд на гладкой поверхности икон, в которых отражался свет двух свечей. Всего через несколько часов здесь будет гореть электрический свет – агрегат уже собрали. Но, помимо этого, условия для достойного размещения разведбата оставляли желать лучшего.
– Чтобы к завтрашнему утру были вставлены стекла! И был стол и пять стульев! Понятно?
Бледная женщина, следовавшая за ним на расстоянии, кивнула, гладя по голове мальчонку, уцепившегося за ее подол и глядевшего на незнакомца во все глаза. Они теперь ютились в крохотном хлеву и спали под копытами у коня, которого им оставили.
– Они придут? – спросила женщина.
– Кто? – У Фрёлиха-переводчика была мерзкая привычка, разговаривая с русскими, смотреть из-под полуопущенных век так, будто собеседника тут и не было.
– Наши. То есть большевики.
На лице женщины читалось беспокойство, ведь ее муж работал на немецкую комендатуру.
– Красные? – Фрёлих хохотнул. По-русски он говорил жестко, словно молотом бил. Он был балтом. – Туда, где стоят немецкие войска,