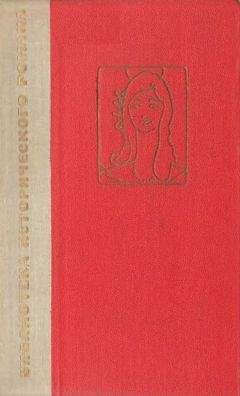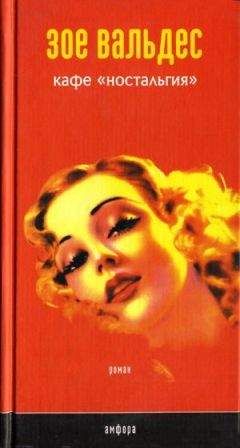Тут и читались лекции по философии; здесь впервые начал преподавать кубинской молодежи эту науку знаменитый падре Феликс Варела; он составил для этого новый текст, в корне отличавшийся от аристотелевского, бывшего до той поры на Кубе единственным философским текстом, который изучался с самого основания Гаванского университета при монастыре Санто-Доминго в 1714 году. Когда в 1821 году падре Варела был избран представителем в испанские кортесы, то на смену ему кафедру возглавил один из самых одаренных его учеников — Хосе Антонио Сако; в пору нашего рассказа ее занимал адвокат Франсиско Хавьер де ла Крус, так как руководитель кафедры уехал в Северную Америку, а досточтимый основатель ее оказался в изгнании.
В левом углу патио находился другой зал, в котором падре Плумас преподавал латынь. В этот зал входили с галереи. Вплотную к нему, занимая почти всю противоположную сторону патио, примыкала столовая для семинаристов и некоторых преподавателей, проживавших постоянно в том же здании. Налево от главного входа широкая каменная лестница вела на галереи верхнего этажа. По ней поднимались студенты юридического факультета, не числившиеся семинаристами; студенты же философского и латинского факультетов входили в соответственные, уже упомянутые помещения через двери, находившиеся на уровне патио.
Утром того дня, о котором мы повествуем, внимание студентов-юристов, как только те поднялись на первую ступеньку лестницы, невольно привлекла к себе группа из трех человек, стоявших у входа на галерею и занятых оживленной беседой. Тому, кто в этот момент говорил, на вид было лет двадцать восемь — тридцать. Он был среднего роста; на его белом, довольно румяном лице выделялись большие голубые глаза с красивым разрезом и полные губы. Волосы у него были каштановые и гладкие, но густые. Во всей его внешности чувствовалась некоторая сдержанность, одет он был элегантно, на английский манер. Второй собеседник в этой группе представлял собой полную противоположность только что описанному: мало того, что у него была приземистая фигура, большие глаза навыкате и отвислая нижняя губа, выставлявшая напоказ неровные, широкие и скверно поставленные зубы, — кожа его имела цвет табачного листа, что заставляло сильно сомневаться в чистоте его крови. Третий собеседник отличался от двух упомянутых во многих отношениях: он был стройнее их, старше возрастом, бледнолиц, весьма приятен и деликатен на вид. Это был профессор философии Франсиско Хавьер де ла Крус; второй был Хосе Агустин Говантес — выдающийся юрист, который исполнял обязанности руководителя кафедры отечественного права, а первый — Хосе Антонио Сако, только что вернувшийся из Северной Америки.
Он уже успел прославиться своими статьями в журнале «Менсахеро семиналь», издававшемся в Нью-Йорке, как говорили, при сотрудничестве высокочтимого падре Варелы; наибольшую известность получили его статьи о революции в Мексике и Колумбии и о ее вождях. С особенным интересом читалась и вызывала живейший отклик в Гаване его политическая полемика с директором Ботанического сада доном Рамоном де ла Сагра, в которой Сако защищал матансасского поэта Хосе Мариа Эредиа.
В результате этого кубинская молодежь, пристрастившаяся уже к политике, начала пропускать занятия по ботанике, которыми руководил Сагра, и посмеивалась над ним. Вместе с тем она обожала Сако, которого считала убежденным инсургентом, хотя его точка зрения, как ни удивительно, совпадала со взглядами правящих лиц колонии.
Один из студентов юридического факультета сразу узнал Сако, так как изучал у него философию в 1823 году, шепнул его имя друзьям, и они остановились, конечно скорее из простого любопытства, нежели из других побуждении. Это не ускользнуло от внимания Говантеса: профессор знаками показал своим ученикам, чтобы те поднялись в аудиторию; вскоре и он сам последовал за ними.
Студенты устремились в аудиторию гурьбой; входили они с шумом, споря о Сако, об Эредиа, о его знаменитом гимне «Изгнанник» и о не менее известной оде «К Ниагаре», включенной в сборник стихов, напечатанных в мексиканском городе Толука. Говорили о лекциях по ботанике, о героях колумбийской революции, тогда еще недостаточно известных среди гаванской молодежи. Когда несколько позже вошел медлительной походкой, с книгой под мышкой, улыбающийся, оживленный Говантес, студенты тут же смолкли; воцарилась тишина. Он поднялся по ступенькам на кафедру, положил книгу на широкий пюпитр и уселся в ожидавшее его соломенное кресло.
Этот зал для лекций по юриспруденции был не только самым просторным во всей семинарии, но и наиболее удачно расположенным. Двери находились только в одном его конце; четыре широких окна выходили на галерею и столько же смотрели на Гаванский порт, давая доступ свету и воздуху и открывая вид на крепость Ла-Кабанья и отчасти на бастионы форта Дель-Морро. Кафедра стояла у средней стены, между вторым и третьим окном; перед ней находилось два параллельных ряда скамей, а по обеим ее сторонам — еще множество других, расставленных в продольном направлении; таким образом, лектор со своего возвышения мог охватить взглядом всю огромную аудиторию. Там собралось, вероятно, до полутораста студентов разных курсов.
Студенты, которые заранее подготовились к лекции и были уверены, что смогут изложить ее суть с достаточной ясностью, смотрели независимо и не сводили глаз с профессора. Те же, кто и не думал раскрывать учебник, наоборот, старались съежиться и не знали, куда глядеть. Именно в таком положении пребывал знакомый нам Леонардо Гамбоа, судя по признанию, которое он сделал своим друзьям Менесесу и Панчо Сольфе. Так как при его росте и характере ему нелегко было остаться незаметным, он никогда не садился перед кафедрой, а всегда где-нибудь сбоку, да и то на последних скамьях. В описываемый нами день он занял крайнее место на скамье в самом углу, потеснив для этого своего друга Панчо Сольфу. Окинув взглядом всю аудиторию, Говантес обратился к студенту, сидевшему справа от него, назвав его Матиарту. Это был тот самый похожий на испанца студент, с которым мы уже познакомились. Профессор предложил ему изложить содержание прошлой лекции, что Матиарту выполнил без труда и гладко. Затем Говантес спросил студента, похожего на мулата, по фамилия Мена; наконец, он обратился к третьему, которого звали Арредондо и который сидел перед самой кафедрой. Как только последний закончил свое довольно подробное изложение материала, взгляд Говантеса обратился влево, мельком скользнул по Леонардо (который тут же наклонился, чтобы поднять нарочито оброненный носовой платок) и остановился на молодом человеке, сидевшем на другом конце той же скамьи. Тот не знал темы и молчал, поэтому любезный профессор, немного выждав, сказал: «Следующий!» Результат был тот же. Тогда он на выбор обратился к четвертому, затем к шестому, который тоже не смог ответить на вопрос, пока, пропустив еще трех-четырех человек, Говантес не обратился к Гамбоа: «Попрошу вас». Леонардо попытался притвориться, будто не слышал, потом — будто не понял. Но тут его приятель Панчо подтолкнул его, и Леонардо встал; испытывая одновременно досаду и смущение, он выпалил:
— Будь я проклят, если что-нибудь повторил по этой лекции.
Эти слова вызвали общий смех. Но Гамбоа, овладев собою, продолжал:
— Из того, однако, что говорили сеньоры, выступавшие до меня, я делаю вывод, что тема, которая сейчас обсуждается, является одной из наиболее важных, и полагаю, что ее основные положения я не забуду в случае, если мне понадобится применить их в нашей судебной практике.
С этими словами Леонардо сразу же сел, успев ткнуть указательным пальцем в бок терпеливого Панчо, который то ли от боли, то ли от щекотки не выдержал и подскочил на мосте. Неожиданное выступление Леонардо, так же как и его поведение, вызвало новый взрыв смеха, к которому, несмотря на свою серьезность, присоединился и профессор, после чего он без замедления приступил к чтению лекции о личном праве. Сначала он дал определенно того, что понимается под личностью в римском праве; затем объяснил, что такое состояние, отметив при этом, что оно подразделяется на естественное и гражданское, а это последнее может быть трояким, а именно: по вольному выбору, натуральное и по семейному положению. И тут он вплотную подошел к изложению того, что можно назвать историей рабства. Он обрисовал его, исходя, разумеется, не из фактов античного или современного общества, а проводя параллели с положением римского права, готского права и кубинских законов. Хотя в ту пору на Кубе и царила сравнительная свобода преподавания, однако аболиционистские идеи еще не начали там распространяться.
Говантес, как всегда, был в ударе: он блистал красноречием и неоднократно проявлял широкую эрудицию; последняя в немалой степени объяснялась, несомненно, его недавней встречей с Сако, переводчиком и толкователем книги Гейнекия[35] «О римском гражданском праве», появившейся в коллегии Сан-Карлос в минувшем 1829 году. Когда часы пробили девять, Говантес встал, за ним поднялись и студенты, проводившие его громом аплодисментов.