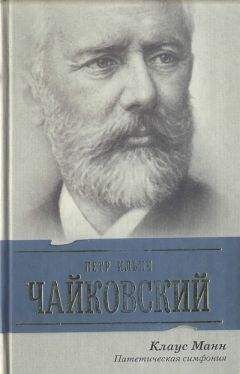— Вы очень талантливы, — сказал господин Аве-Лаллеман, не отрываясь от чистки апельсина, — невероятно талантливы! — Он многозначительно поднял бледный указательный палец. — Но вы на ложном пути, — он укоризненно покачал маленькой головой. — В вашей музыке есть нечто дикое, азиатское, да, простите меня за грубое выражение, варварское, отчего у меня уши разболелись, — и он щепетильно поднес свои маленькие ручки, похожие на заостренные вилки, к ушам, как будто они все еще болели от грохочущей музыки Чайковского. — Вы злоупотребляете ударными инструментами, — плаксиво произнес он. — Боже, какой грохот! Финал вашей третьей сюиты — это же динамитный взрыв! Он прорывает барабанную перепонку — увы! А ведь это нигилистский грохот — вы понимаете, что я имею в виду? Он ничего не выражает, он, в сущности, пуст.
Петр Ильич внимательно слушал, склонив голову и придвинувшись как можно ближе к старику, хотя говорил тот отнюдь не невнятно.
— Вы могли бы стать великим — поистине великим, — утверждал старец своим высоким, дребезжащим голосом, — если бы только избавились от некоторой свойственной вам неотесанности. Переучивайтесь! Исправляйтесь! Пересматривайте свои взгляды! Вы же так молоды! — От этого замечания Петр Ильич вздрогнул, оно смутило и восхитило его. Перед ним был человек, который считал его молодым.
— Учитесь у наших больших мастеров: их благородной сдержанности, их совершенству! Переезжайте в Германию! Оставайтесь у нас. Только наша страна обладает истинной и серьезной музыкальной культурой!
«Вы могли бы стать великим — поистине великим», — слышалось Петру Ильичу и «Вы же так молоды!». Он вдруг почувствовал такую усталость, что глаза его стали сами собой закрываться. Перед ним его поплыло маленькое умное лицо старика, поплыла в тумане и дымке вся картина пирующего, пьющего, болтающего, дышащего, благоухающего, чуждого ему общества.
«Я снова хочу скрыться в маленьком незнакомом городе, — подумал Петр Ильич, — прежде чем мне в Берлине снова придется появляться на людях. Я слышал, что Магдебург — маленький и чужой».
Из Магдебурга он снова поехал в Лейпциг, а из Лейпцига — снова в Берлин. Там все было еще более утомительно, чем в предыдущих городах. Еще до концерта приходилось присутствовать на приемах и больших званых обедах. Петр Ильич договорился, чтобы на одном из приемов у известного музыкального агента Вольфа Сапельников имел возможность выступить перед целым рядом влиятельных людей — критиков, музыкантов и богатых любителей музыки.
— Чтобы хоть какую-то пользу извлечь из всей этой суматохи! — объяснял Петр Ильич, испытывающий некоторое меланхолическое удовлетворение оттого, что молодежь пользовалась его расположением в корыстных целях. Все они хотели чего-то добиться, любой ценой. Сила их тщеславия казалась ему трогательной. «Они бы со мной даже и разговаривать не стали, — думал он, — если бы я не был им полезен. Значит, я должен быть им полезен, ведь они молоды». Он считал, что от его славы будет хоть какой-то прок, если она принесет пользу молодежи.
Сапельников выступил перед влиятельной публикой с большим успехом. На другом приеме — на этот раз у господина Бокка, одного из наиболее преуспевающих коммерческих советников, — Петр Ильич увидел знакомое лицо, которое когда-то так влекло и очаровывало его. Теперь оно изменилось, расплылось и обмякло.
Лицо певицы Дезире Арто было круглым и очень сильно накрашенным. Чрезвычайно усердно запудренная кожа на щеках и на внушительном двойном подбородке была покрыта пушком. Над верхней губой легкой тенью выделялись темные усики. Но изгиб верхней губы по-прежнему был красив — скорее всего, именно форма губ двадцать лет тому назад и делала мадам Арто такой обольстительной, — и, когда она смеялась, видны были ее красивые зубы. Время от времени в ее темных, опытных глазах под изысканно и тщательно подкрашенными веками появлялся тот дерзкий блеск, который когда-то казался Петру Ильичу самым желанным на свете. Однако взгляд этих глаз имел привычку вдруг становиться усталым и безразличным, когда госпожа Дезире расслаблялась, полагая, что на нее никто не смотрит.
В первый момент они друг друга не узнали. Петр Ильич только заметил среди гостей нечто очень помпезное, бросающееся в глаза: атласный наряд малинового цвета, блистающее ожерелье на сверкающем белизной гигантском декольте — в фас полнота форм была устрашающей, но линия спины была красивой. Петр Ильич холодно и по-деловому любовался великолепием ее кожи, как любуются экспонатом на выставке, прежде чем он успел узнать лицо своей старой подруги.
Мадам Арто знала, что ожидают Чайковского, и, несмотря на это, она не остановила взгляда на стоящем неподалеку от нее седобородом господине в тесноватом фраке. Его напряженное лицо с высоким лбом, тяжеловатыми веками, нависшими над растерянно-задумчивыми глазами, и безвольным ртом показалось ей чужим. Когда она все-таки узнала его, она вскрикнула и так широко распростерла свои белые, пышные, оголенные руки, что звякнуло ее ожерелье.
— Пьер! — воскликнула мадам Арто, и в прекрасных глазах ее вдруг появились слезы, может быть, просто под впечатлением встречи, может быть, от замешательства, потому что ее друг так постарел и изменился. — Пьер! Не может быть!
— Дезире! — очень тихо произнес Петр Ильич.
Кровь отхлынула от его лица, которое вдруг стало очень бледным. Поседевший господин и располневшая дама несколько мгновений неподвижно и молча стояли друг против друга. Петр Ильич дрожал, склоняясь к ее руке. По крайней мере, эта рука осталась такой же изящной, какой он ее помнил. Ему всегда нравилось, что она, несмотря на свою любовь к ювелирным изделиям, никогда не носила колец.
— Это сколько же времени мы не виделись? — Петр Ильич задал вопрос, ответ на который занимал их обоих.
Его задумчивый взгляд проскользнул мимо стоящей рядом с ним пышной мадам Арто, как будто пытаясь за ее спиной разглядеть изящный облик былых времен.
— Ах, перестаньте, перестаньте, жестокий Пьер! — воскликнула мадам Дезире, отмахиваясь шелковым платочком малинового цвета.
Петр Ильич, казалось, не слышит ее.
— Прошло ровно двадцать лет, — произнес он рассеянно, с безжалостной педантичностью.
В ответ на это она опустила малиновый платочек.
— Ах, прошло двадцать лет, дорогой Пьер! — сказала она красивым, тихим и печальным голосом.
«Она, должно быть, по-прежнему прекрасно играет на фортепиано, — подумал Петр Ильич. — Мне рассказывали, что ее голос стал резким на высоких тонах, острым, как игла, и что она совсем выдохлась. Но я уверен, что размеренные произведения она по-прежнему исполняет очаровательно. Между прочим, ее голос начал терять форму еще тогда, когда я слышал ее в последний раз в московском оперном театре. Это было спустя год после нашего романа, она тогда уже была замужем за этим… испанским баритоном — как же его звали? Тогда в газетах ее уже называли „испевшейся“, но она все еще пользовалась большим успехом, ее талант все-таки одерживал верх. Какой она была восхитительной актрисой!»
— Мне довелось еще раз увидеть вас, разумеется только на сцене, и к этому времени вы несомненно уже успели меня забыть, — сказал он. — Это было через год после… вашего неожиданного отъезда. Я сидел, спрятавшись в ложе, и любовался вами. Как сейчас помню, вас двадцать раз вызывали на бис после «Гугенотов»…
— Двадцать вызовов! — Арто была тронута. — Как мило с вашей стороны, что вы сосчитали вызовы и даже запомнили их количество! — Она одарила его влажным, тоскливо-нежным взглядом.
— Я эту постановку «Гугенотов» никогда не забуду.
Это была не просто фраза. Для Чайковского был незабываем каждый момент этого вечера, когда ему довелось увидеть Дезире Арто, теперь мадам Падилла (да, фамилия ее испанского супруга была Падилла), на сцене московского оперного театра. На протяжении всего спектакля он не отводил бинокля от глаз, но не для того, чтобы лучше видеть — он и видеть-то ничего не хотел и сидел он рядом со сценой, — а чтобы друзья, сидящие с ним в ложе, не заметили, что он плачет. Когда публика приветствовала свою любимую Арто аплодисментами, он заплакал, и слезы его так и лились во время двадцати вызовов по окончании спектакля. Почему плакал Петр Ильич? Неужели потому, что потерял ее? Неужели он потерял бы ее, если бы хоть немного хотел ее удержать? Разве мог он потерять то, что никогда ему не принадлежало? Разве мог он овладеть тем, чего недостаточно страстно желал? Были ли это слезы покинутого любовника, узревшего свою неверную подругу? Если это действительно были слезы скорби, то о чем он скорбил? Ну уж не о том, что любил безответно! (Ах, с какой упрямой нежностью добивалась его недостаточно им обожаемая Дезире!) О том, что любил недостаточно: да, об этом он мог скорбеть и проливать слезы. Хотя, может быть, это были совсем не слезы скорби, а скорее слезы стыда…