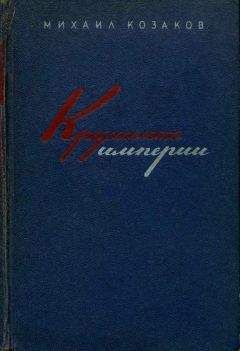На минуту глаза его стали влажны, и он отвернулся, поспешно закуривая папиросу.
— Не волнуйся, Левушка! — со строгой мольбой обратилась к нему Софья Даниловна и с явной укоризной посмотрела на дочь, призывая ее взглядом оценить душевное состояние отца.
После первой же затяжки Лев Павлович положил дымящуюся папиросу на краешек пепельницы и, медленно расхаживая по комнате; продолжал свою речь:
— События грандиозные… В несколько дней произошло прямо-таки чудо в России. Сбылись наши самые фантастические мечты. Скажу с гордостью, и вы, дорогие мои, это сами знаете: здесь, вот в этой самой комнате, сколько раз, господа, собирались те самые люди, которые стали сейчас во главе России!.. Мне кажется, Ириненок, что ты тоже должна гордиться этим. А?
Дочь молчала.
Но, может быть, это не была форма возражения — это молчание? Может быть, Ириша почтительно только слушала, просто не желая прерывать отца? Лев Павлович искоса посмотрел на нее.
Он заметил, что недопитый стакан молока больше уже не нужен ей, — он взял его из рук дочери и поставил вместе с блюдцем на стол.
— Вы понимаете, дорогие мои… Нужно рассуждать, как говорится, масштабно… Да, да!.. Ты, Ириша, — курсистка, ты учишься в университете. Что это означает? Ты когда-нибудь думала об этом?
Дочь подняла на него глаза, и он прочел в них любопытство, доверие и внимание уважительно прислушивающегося человека.
— Университет — это означает: развивать в себе, дочка, дух исследования. Вот что это означает! Могучий дух исследования, которым интеллигенция должна обогатить всю страну. Ты должна быть предана университету — и больше ничему!. Особенно в наших новых условиях. Как ты считаешь, Ириненок? Университет, как хранилище всех отраслей человеческих знаний, дает более общее, разностороннее и общечеловеческое развитие и содействует выработке более законченного миросозерцания в молодежи, чем любая модная партийная программа… Вот, я сам — политик, член определенной партии, но для молодежи… для молодежи я желаю только университета! — лукавил Лев Павлович, нарочно растерянной улыбкой и подмигиванием жене показывая свое якобы отступничество в интимной семейной среде от некоторых своих партийных принципов. — Затем, посмотри, Ирина, — все по-разному называл он сегодня дочь, стараясь все время быть с ней поласковей, дабы не вспугнуть. — Ты сейчас поймешь, о чем я хочу сказать… Никогда еще внешняя жизнь человека не была так богата и украшена удобствами и изобретениями, как в наш век. Самый бедный человек пользуется в наше время такими удобствами и приспособлениями в жизни, о каких не мог и подумать, например, величайший богач два века… век назад!
— Ну-ну! — впервые за время его речи прервала его Ириша ироническим восклицанием, и Лев Павлович насторожился.
— А вот, голубушка, — сказал он, — внешняя жизнь делает гигантские шаги вперед, обогащает человечество.
— Взаимоистребление, например, на войне! — резко пошевелилась на своем месте Ириша, и полы ее пестрого халатика отвернулись, выставив голую, повыше колена, ногу.
Мать заботливо, назидательным жестом тотчас же привела в порядок ее одежду:
— Почему без чулка?
— Ну, знаешь, Ириша, это особый разговор! — сухо сказал Карабаев и вновь принялся за папиросу. — К тому же, — угрожал он, — я знаю, откуда он исходит!.. Ты выслушай меня. Внешняя жизнь — вперед, а вот внутренняя жизнь, жизнь человеческой души… не делает еще в обширной масса народа заметных успехов. Напротив! Есть целые группы людей… они, в лучшем случае, обладают полуобразованием, уличной эрудицией. Да, да, — уличной, не больше!.. Они, — как бы это сказать?.. Они как бы отшлифованы трением в сильном общественном движении нашей русской интеллигенции. Но душевная сторона этих людей не затронута истинной культурой, и потому они сами неизбежно аморальны! Это надо помнить, Ирка!.. У них непросвещенная душа. Душа этих людей знает один лишь эгоизм — иногда замаскированный, иногда же без всякой личины. В жизненной давке, в конкуренции — люди эти, без всяких околичностей, сбивают, устраняют с дороги без пощады других людей. Устраняют жестоко, немилосердно. На общество они смотрят не как на мирное содружество, а как на беспощадную борьбу. И почему-то они величают ее громко: «классовая»!.. Непросвещенная у них душа, Иринка… Непросвещенная, поверь мне! Свирепая, ничем неодолимая: жажда наслаждений, ненависть к более возвышенным душевно людям, масса мелких, дрянненьких чувств — вот что составляет содержание таких душ…
В голосе Льва Павловича уже звучали злоба и раздражение. Они стали столь заметны, что жена и дочь обеспокоились и насторожились, и Софья Даниловна, предвидя бурю, стала успокоительно поглаживать Иришину руку.
Карабаев оборвал вдруг свою издалека шедшую к истинной цели, «предварительную» многословную речь и, словно сам сейчас забыл о ней, сдавленным, глухим голосом спросил дочь:
— Я тебя прошу… прошу тебя, дочка моя, совершенно правдиво сказать нам с мамой: кто такой господин Ваулин и в каких ты с ним отношениях?
Он увидел, как густая краска залила теперь Иришино лицо, и оно стало еще красивей, чем было: настолько красивей, что оно показалось ему менее знакомым, чужим, не Иришиным. Он увидел горячий свет в ее настежь открытых глазах и ее сжавшийся упрямо рот — и понял, что те худшие подозрения, которые вот уж год как он питал, оправдались сейчас и не требуют никаких более подтверждений.
Все было ясно… чудовищно ясно! И вот сегодняшняя газетная заметка…
Ему хотелось выкрикнуть что-то гневное, больное, но он придвинул к дивану стул и опустился на него, наклонившись корпусом к дочери.
— Ты уже знаешь о Ваулине? — тихо спросила она, и Льва Павловича досадливо поразил спокойный тон ее голоса. — Откуда?
— Мало ли откуда могут знать родители!.. — сказала Софья Даниловна.
Переменив живо позу, она уселась поудобней на диване: так, чтобы получше видеть все Иришино лицо.
Теперь-то она, мать, вмешается в разговор и не откажется сама повести его. Пусть Левушка предоставит все ей…
— А ты хотела скрыть от нас? — спросила она у дочери.
— До поры до времени.
— Но кто же он такой в конце концов?
— Ты его видела, мама, у нас.
— Помню… С седыми височками, — этот?
— Ты сама говорила: умница…
— Вот этого не помню! Но все-таки — кто он?
— Кто? Вот кто! — выкрикнул Лев Павлович.
Он соскочил со стула, схватил лежавшую на письменном столе газету и, ткнув пальцем в столбец, дал ее жене.
— Твой родственничек, Соня, очевидно, с ним лучше тебя знаком! Твой родственничек, дорогая моя!.. Полюбуйся на подпись!
Только сейчас ему пришло в голову об истинном авторе заметки — Фоме Асикритове, и это еще больше подлило масла в огонь.
А может, и сама Ириша рассказала ему обо всем, и этот «писака», не пощадив ее же самое, ради сенсации тиснул ее рассказ в газете?.. Подлец!
Ириша и Софья Даниловна быстро пробегали глазами газетную заметку, — Карабаев пристально наблюдал в этот момент за лицом дочери. Ему казалось, что прошла не минута, а много больше, покуда она подняла голову.
— Скандал… Чистейшей воды скандал! — вполголоса, гневно и печально комментировал он молчаливое чтение газеты. — В прошлом году я догадывался… я мог кое о чем догадываться, но такое… такое, господа? Надо же понимать, кто твой отец!
— Да, мне это надо понимать… А в чем собственно скандал? — наконец, подняла голову Ириша. — Вы хотите правды? Я вам ее всю расскажу, — посмотрела она на мать. — Я и так собиралась… Да, будем говорить откровенно!
…Общий завтрак сегодня не состоялся. Напрасно Клавдия, прислуга, несколько раз на цыпочках подходила к дверям карабаевского кабинета с тем, чтобы звать всех к столу.
Она прислушивалась: ах, все одно и то же!
Отчего бы это плакать такой счастливой хозяйке, как Софья Даниловна, и с чего бы до хрипоты и кашля сердиться барину? Был он такой ласковый, а как стал министром — так чего-то и не узнать даже!
Шли бы уж к столу: а то котлетки все высохнут на сковороде, — кто виноват будет?
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Дело № 0072061
Перед Петром Лютиком, историком-следователем особой комиссии Временного правительства, лежала груда писем, вытащенных из шкафов военно-цензурного комитета. Это были письма пленных русских солдат и переписка с ними их родных.
Он быстро пробегал глазами каждое письмо, наиболее интересное тут же передавал сидевшему напротив Асикритову.
«Дорогой Митя, вы пишете из плена, чтобы я снялась на карточке в платье с розочками, но как узнала про то ваша мамаша, то сильно обиделась. Я, говорит, заботюсь о нем и шлю ему всего, а он еще что там выдумывает: чтоб ему портреты!»
«…Ты, тятька, не признавайся, что сдался в плен, а говори, что от армии отстал».